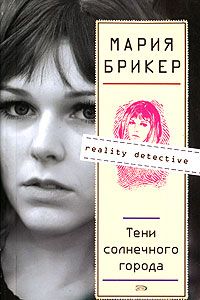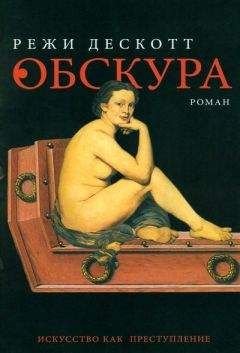Виктор Каннинг - Клетка

Обзор книги Виктор Каннинг - Клетка
Виктор Каннинг
Клетка
«Известно каждому, что ведомство шпионов – главнейший враг всех смертных на земле»
У. Шекспир, «Макбет».Глава первая
Автобус на ухабах так трясло и подкидывало, что старику напротив сестры Луизы и кусок в горло не лез. На коленях у него поверх красного платка лежали рыбные лепешки и кусок овечьего сыра. Старым ножом с костяной рукояткой старик отрезал ломтик сочащейся брынзы, клал его на лезвие, подносил ко рту, держа под ним и лепешку, чтобы ни крошки не растерять. Сзади, из глубины автобуса кто-то окликнул старика и захохотал. Тот обернулся, ухмыльнулся, вдруг двинул ножом так, словно хотел пырнуть кого-то и, сморщив лицо от удовольствия, ответил кричавшему словами грубоватыми, не совсем пристойными. Сестру Луизу они не покоробили. По давней привычке она просто не обратила на них внимания. Где-то заиграл транзистор и женский голос – глубокий, хрипловатый, томный – разнес по автобусу жалобу об утраченной любви.
Монахиня отвернулась от старика и глянула в окно. Дорогу окаймляли заросли пробковых дубков. На их темном фоне в окне, словно в зеркале, отразилось ее лицо, а повыше – над верхушками деревьев – пролетел удод. Монахиня не отвела глаза от стекла – смотреть на свое лицо ей уже не казалось запретным. Ведь больше не придется выдумывать прегрешения просто ради исповеди. Можно хотя бы ненадолго позволить себе свободу, отринутую с уходом в монастырь. Три месяца назад тело предало сестру Луизу. Впрочем, ее плоть победила дух не в одночасье. Теперь монахиня понимала: за восемь лет земное начало постепенно пересилило стремление к истинному покою, обретаемому в святой преданности делу служения Иисусу Христу. И ничто уже не могло тронуть ее сердце, кроме гордыни – она и привела сестру Луизу на этот автобус, поддержит ее еще несколько кратких часов.
Старик порылся под сиденьем, вынул кожаный бурдюк с вином, поднес ко рту. Кадык медленно запульсировал, упираясь в латунную заколку на рубашке без воротника, а увядший цветок люпина выпал из-за ленты на поношенной шляпе старика и теперь лежал на красном платке у него на коленях. Какой-то парень с пиджаком через плечо прошел мимо монахини и стал у водителя. Тот вытащил из-за уха окурок. Парень чиркнул спичкой, водитель закурил. На парне была потрепанная голубая рубашка, тугая в плечах. Ноги у него были стройные, словно девичьи. Сестра Луиза опустила глаза и разгладила письмо, спрятанное под поясом.
Старик отрыгнул, транзистор заиграл военный марш. Сестра Луиза смотрела на дорогу. В детстве она часто бывала здесь, с удовольствием ездила по этим местам с матерью на заднем сиденье «Роллс-Ройса» – его вел Джорджио, одетый в зеленую ливрею с серебряными пуговицами, солнце сверкало на полированном черном козырьке его фуражки, а он с отвращением думал, что вскоре придется свернуть с шоссе на гравийку к морю; мать тем временем болтала без умолку – неугомонная, словно птица, она размахивала сигаретой «Балкан Субрейн», оставляя в воздухе легкие облачка дыма… мать, которой давно уже нет в живых.
Автобус притормозил. Монахиня встала и двинулась к выходу. Парень уже спрыгнул наземь. Больше никто выходить не собирался. Она достала письмо и протянула его водителю.
– Будьте любезны, отправьте его, когда приедете в Лагуш, – попросила она по-португальски.
– Конечно, сестра. – Он рассеянно кивнул. Монахиня изъяснялась на языке шофера уверенно и без ошибок, но он мгновенно понял – язык этот ей не родной. Шофер положил письмо на полку под спидометром.
– Спасибо.
Монахиня сошла и остановилась на обочине, пропустила автобус. Парень, насвистывая, пошел вдоль дороги, помахал вслед автобусу. Она дождалась, когда машина скрылась за поворотом, пересекла шоссе и направилась по тропинке, что спускалась по склону, извиваясь между низеньких зонтичных сосен, к гравийке, размытой зимними дождями – потому ее и ненавидел Джорджио. Последний раз она приезжала сюда в 15 лет, за год до смерти матери. С ними был и отец, что случалось чрезвычайно редко.
Солнце уже садилось, небо на западе окрасилось в зеленое и голубое – как перья у зимородка. За деревьями показалось море, спокойное в этот безветренный вечер, за что сестра Луиза была ему благодарна.
Монахиня подошла ближе, и ничто не проснулось у нее в душе, когда она миновала крытую черепицей виллу, заросшую плющом и вьюном. Поздние дикорастущие белые ирисы росли у стен, а на желтой штукатурке красной краской были выведены политические лозунги. У подножия холма тропинка поворачивала направо – ноги стали увязать в принесенном с моря песке – шла между редкими бедняцкими хижинами и крытыми соломой пляжными навесами. У винной лавки за грубо сколоченным столом выпивали трое рыбаков. Они оглядели сестру Луизу без любопытства, а невзрачный коротколапый коричнево-белый пес – хвост крючком – побежал за ней.
Женщина, что лущила фасоль под соломенным навесом, коротко кивнула ей, проводила взглядом, а руки ее тем временем трудились над стручками фасоли словно сами по себе. Пес обогнал монахиню и увел от хижин на песчаную косу, поросшую по берегам овощами и молодой кукурузой. На округлой стене ирригационного колодца было написано, что вода для питья непригодна. Ласточки и стрижи носились у самой земли в погоне за мухами и слепнями. Издалека доносились крики чаек. Между рыжими скалами монахиня прошла в небольшую долину, увидела приглаженный морем песок, а за ним – легкую пену ленивого прибоя. Именно здесь Джорджио останавливал «Роллс-Ройс», выносил на песок пляжные корзинки и зонтики, а потом уезжал до назначенного часа… Джорджио с вечно непроницаемым лицом – оно не менялось никогда, невзирая на все капризы матери.
Пес по-прежнему бежал впереди. Сестра Луиза осторожно ступила на песок. Позади, далеко в стороне, стояли целиком вытащенные на берег шаланды, около прохаживались рыбаки. Вода начала отступать, и это было ей на руку. Отлив вынесет ее куда нужно. Глядя на безмятежное море, она чувствовала, как успокаивается, не оставляя место страхам и сомнениям. Идя по песку, монахиня поворачивала голову так, чтобы накрахмаленный чепец не мешал смотреть на безбрежное море. Здесь мать, очень любившая воду, научила ее плавать, здесь же отец едва не ударил, когда она пролила бокал красного вина ему на безукоризненно белые брюки. Он вовремя осекся, но она до сих пор помнила, каких усилий ему это стоило, как он затрясся, едва сдерживая себя. И вот теперь, освобожденная от шор праведности и всепрощения, она призналась себе, что никогда его по-настоящему не любила. Мать – другое дело… из нее так и выплескивались к нему любовь и обожание, яркие, теплые и обволакивающие, щедро сдобренные неуемными ласками и нежностью.
Монахиня миновала невысокие безжизненные скалы – обошла их вдоль зарослей тамариска – и приблизилась к маленькой бухте, что застыла в одиночестве, и лишь переливы потоков теплого воздуха от нагретых солнцем скал нарушали ясную неподвижность моря и пляжа. Вдали, там, где воды смыкались с небом, четкой линии горизонта не было – одна бледная дымка цвета внутренней стороны высушенных солнцем раковин мидий, усеивавших берег.
Монахиня опустилась на песок в тени невысокого утеса. Пес подошел и гавкнул. Она не обратила внимания, и он принялся искать что-то у самой кромки моря. Сестра Луиза рассеянно смотрела на него. Затем, стряхнув оковы самоотречения, лениво подняла лежавшую рядом палку, пепельно-серую от солнца и воды, гладкую, и с легким удовольствием провела по ней пальцами. Пес возвратился и свернулся калачиком у ног монахини. Солнце постепенно растворялось в море, тени от скал удлинялись, удручающе однообразно кричали чайки. Так и просидела сестра Луиза до сумерек, теребя отполированную палочку, словно четки, что лежали в кармане ее саржевой юбки. Пес уснул. Поднялся едва заметный туман, заволок звезды. Море, подчиняясь силам Луны, отступало.
Монахиня поднялась и начала медленно раздеваться. Пес проснулся и, рассчитывая на игру, побегал немножко взад и вперед, а потом разочарованно заскулил. Следуя многолетней привычке, сестра Луиза аккуратно складывала одежду на ровный валун. Платье было не ее, принадлежало монастырю. Не желая познать собственную наготу, она осталась в ночной рубашке и грубых шерстяных чулках. Придавила стопку одежды на валуне тяжелыми черными башмаками. Наконец отстегнула тугие резинки чепца, сложила его и сунула в башмак. И с непривычкой ощутила, как прохладный ночной воздух ласкает коротко подстриженные волосы.
Она подошла к самому морю. Пес ковылял за ней по пятам. Без колебаний она вошла в воду, почти не чувствуя холода. Вскоре остановилась, ощутила, как ее начинает тащить отлив, и опустила руки – теперь и они соприкасались с прохладой моря. Пес лаял и скулил, бегал из стороны в сторону вдоль кромки воды. Глубина была ей уже по пояс, монахиня присела – плечи скрылись – и поплыла брассом, неспешно, без труда превозмогая вес намокших ночной рубашки и чулок, что тянули на дно. Проплыв несколько сотен ярдов, она обернулась на берег. Там, вдали, на фоне неба мелькнули фары автомобиля. К востоку от них в ночи мерцали огни летних домиков. Над пляжем, где она разделась, одиноко сияло окно виллы, наполовину заслоненное черным стволом миндального дерева. По мерному повороту его силуэта на фоне окна монахиня догадалась, что отлив сносит ее к западу, прочь от берега. Ее вполне устраивало плыть по течению, ждать, когда верх возьмут холод и усталость. Потом она почувствовала, что с ноги съезжает чулок и, не раздумывая, сбросила его. Отлив все скорее уносил ее в открытое море. Вскоре она освободилась и от второго чулка.