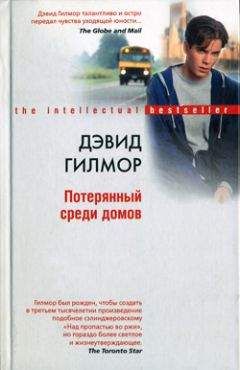Джон Ле Карре - Идеальный шпион
Пим спрашивает ее, как смогла она потом отыскать зеленый шкафчик. «Я видела, как эту дурацкую штуку привезли, — говорит она. — Я ведь следила за этой гостиницей с первого дня избирательной кампании. Этот педераст Кадлав доставил его отдельно в лимузине, не постояв за расходами. А эта сволочь Лофт сам помогал тащить его в подвал — единственный раз, когда он не побоялся замарать своих белых ручек. Рик побоялся оставить шкафчик в Лондоне, пока они все здесь».
— Мне надо припереть его к стенке, Магнус, — все повторяла она, когда на рассвете он провожал ее. — Если там и впрямь есть какие-то свидетельства, я раздобуду их и обращу против него, клянусь, я это сделаю! Я брала от него деньги да, правда! Но что значат деньги, когда вот он — вышагивает по улице, гордо, как лорд, а мой Джон гниет в могиле! И на улицах все хлопают: молодец Рики! А вдобавок он еще себе обманом хочет выхлопотать место в царствии небесном! Какой же прок тогда от бедной обманутой жертвы, которая позволила ему из себя веревки вить и будет гореть за это в аду, если она не исполнит своего долга, не разоблачит это дьявольское отродье? Но где свидетельства, ответьте?
— Пожалуйста, замолчите, — сказал Пим. — Ян так знаю, что вам надо.
— И где справедливость? Если все это тут, я раздобуду это, вырву у него во что бы то ни стало. У меня нет ничего, кроме двух писем от Перси Лофта с просьбой об отсрочке, а такое разве поможет? Это все равно что пытаться пригвоздить дождевую каплю, скажу я вам.
— Ну успокойтесь же, — сказал Пим, — ну пожалуйста!
— Я отправилась к этому болвану Лейкену, тори. Пришлось полдня дожидаться, но все же я пробралась к нему «Рик Пим — это настоящая акула», — говорю, но какой смысл говорить это тори, если и сами-то они не лучше! И лейбористам я это говорила, а они мне в ответ: «А что же он совершил?» Сказали, проведут расследование, но разве они отыщут что-нибудь, овечки несчастные!
* * *Мэтти Сирл подметает внутренний дворик. Но его пристальные взгляды не смущают Пима. Пим держится с достоинством и идет той же уверенной походкой, как и тогда, направляясь к полицейскому у «Дополнительного дома». «Я имею право. Я британский гражданин. Извольте пропустить меня».
— Я оставил в подвале кое-какие вещи, — небрежно роняет он.
— Да, пожалуйста, — откликается Мэтти.
Голос Пегги Уэнтворт вгрызается в душу, как циркулярная пила. Что за ужасное эхо пробуждает он там? В котором из заброшенных домов его детства воет и стенает это эхо? И почему звук этот так робок, несмотря на дьявольскую настойчивость? Это заговорила наконец восставшая из мертвых Липси. Это невыносимый отголосок собственных моих мыслей. Грех, который нельзя искупить. Сунь голову в рукомойник, Пим. Включи краны и слушай, а я объясню, почему еще не выдумано то наказание, которым можно избыть твою вину. Почему ты опять намочил простынку, сынок? Разве ты не знаешь, что если не будешь мочиться в постель в течение года, то в конце получишь тысячу фунтов? Он зажигает свет в помещении Комитета, распахивает дверь на лестницу, ведущую в подвал, и тяжело шлепает по ступенькам вниз. Картонные коробки. Товары. Излишества, которыми возмещают недостаток. Опять в ход идет циркуль Майкла, циркуль лучше швейцарского перочинного ножика. Он вскрывает замок зеленого шкафчика, выдвигает первый ящик, и тут же его бросает в жар.
Фамилия «Липшиц», имя «Анна». Всего два скоросшивателя. «Так, Липси, наконец-то это ты, — хладнокровно думает он. — Короткая была у тебя жизнь, правда? Сейчас не время, пока подожди, потом я вернусь и займусь тобой. Уотермастер Дороти. Супруга. Всего один скоросшиватель. Что ж, ведь и супружество было недолгим. Ты тоже подожди меня здесь, Дот, потому что сейчас мне надо разобраться с другими тенями и призраками».
Он закрывает первый ящик и выдвигает второй. «Рик, подонок, где ты там прячешься?» Банкротство, вот, целый ящик об этом. А вот и третий ящик. Все тело горит предвкушением открытия — горят веки, горит спина, горит поясница. Однако пальцы его работают легко, быстро, ловко. Если я для чего-нибудь рожден, так для этого. Я сыщик божьей милостью и действую всем на благо. Уэнтворт, вот сколько их, надписанных рукою Рика. Пим хранит в памяти дату письма Маспоула, в котором тот сожалеет об отсутствии Рика «по важным делам государственного значения». Он помнит Крах и долгий отпуск Рика для поправки здоровья, в то время как он с Дороти отбывали свой срок в «Полянах». «Рик, подонок, где ты там прячешься?» «Давай, сынок, мы же с тобой товарищи, правда?» Вот-вот я услышу лай герра Бастля.
Он выдвигает последний ящик — там находятся бумаги от 1938 года, относящиеся к процессу «Его Королевское Величество — против Пима» (3 толстенных папки) и процессу от 1944 года, аналогичному (1 папка). Пим вынимает первую бумагу из связки 1938 года, кладет на место и берет последнюю. Прежде всего он заглядывает в конец, читает последнюю страницу — заключение судьи, приговор, распоряжение о немедленном освобождении арестованного. В холодном азарте он перелистывает бумаги, пробираясь к началу, и перечитывает все по порядку. Киносъемки тогда не велись, и ксерокса не было, и магнитофонов… Было лишь то, что можно увидеть, услышать, запомнить и украсть. Целый час он читает бумаги. Часы бьют восемь, но он не обращает на них внимания. «Я занят служебными делами. Священный долг властно востребовал меня. А вам, женщинам, лишь бы стащить нас вниз, с сияющих высот!»
Мэтти все еще метет дворик, но теперь силуэт его расплывается.
— Ну как, нашли? — спрашивает Мэтти.
— Да, спасибо, еще не все пока.
— Ну, лиха беда начало, — говорит Мэтти.
Пим поднимается к себе в комнату, поворачивает ключ в замке и, придвинув стул к доске умывальника, начинает писать. Строчит быстро, по памяти, не обдумывая, не заботясь о стиле. И вдруг — стук в дверь. Сначала едва слышно, потом громче, еще громче. Затем нежное и грустное «Магнус?», а после медленные шаги вниз по лестнице. Но Рик проник в самую суть, женщины ему отвратительны, и даже Джуди сейчас остается на обочине. Он слышит стук ее шагов по двору. Слышит, как отъезжает автофургончик. Ну и хорошо, что избавился.
«Дорогая Пегги, —
пишет он, — надеюсь, что прилагаемое Вам пригодится».
«Дорогая Белинда, —
пишет он, — должен признаться, что процедура демократических выборов увлекает меня. Что поначалу кажется грубым и примитивным, постепенно раскрывается как тонкий и хорошо отлаженный механизм. Давай встретимся возможно скорее, как только я вернусь в Лондон».
«Дорогой отец, —
пишет он, — сегодня воскресенье, и наша общая судьба решится через четыре дня, но хочу, чтобы ты знал, до какой степени восхищают меня мужество и стойкость, которые ты проявил в экстремальных условиях этой избирательной кампании».
* * *Стоявший на трибуне Рик даже не шевельнулся. Острый, как удар ножа, взгляд был по-прежнему устремлен на Пима. И все же Рик казался спокойным, словно в зале не могло произойти ничего такого, с чем он не смог бы совладать. Заботил же его лишь сын, с которого он с подозрительной настойчивостью не сводил глаз. В этот вечер на нем был самый его парадный серебристый галстук, а в рукавах сверкали запонки от «Аспри» с инициалами Р.Т.П. Днем он постригся, и Пим, глядевший на отца таким же неотступным взглядом, чувствовал, как пахнет от него парикмахерской. На одну секунду взгляд Рика переместился на Маспоула, а позже Пиму показалось, что он заметил кивок Маспоула, как бы условный сигнал, поданный Маспоулом отцу. Тишина в зале была полной. Ни кашля, ни поскрипыванья, притихли даже «Ветераны-буревестники», которых Рик, по обыкновению, посадил в первый ряд, чтобы они напоминали ему его милую мамочку и горячо любимого отца, который не раз вот так же геройски, лицом к лицу, встречал грозившую ему смертельную опасность.
Наконец Рик повернулся и сделал несколько шагов по направлению к публике с видом абсолютной добродетели, так часто предварявшим самые лицемерные из его поступков. Он добрался до стола президиума и пошел дальше. Он потянулся к микрофону и отключил его. Никакой механизм не должен вклиниваться между нами сейчас. Он остановился около самого края трибуны, там, где начинались ступеньки. Решительно выдвинув вперед челюсть, он оглядел лица собравшихся и, на секунду позволив своим чертам выразить нерешительность и поиск, начал говорить. Где-то на полпути между Пимом и аудиторией он расстегнул пиджак. «Бейте меня вот сюда, — казалось, хочет он сказать. — Вот оно, мое сердце». И наконец он начал свою речь. Голосом выше обычного. Видите, как душат меня эмоции?
— Не будете ли вы так любезны повторить ваш вопрос, Пегги? И погромче, голубушка, чтобы все могли слышать!
И Пегги Уэнтворт повиновалась. Уже не просто в качестве обвинителя, но в качестве гостьи, приглашенной Риком.