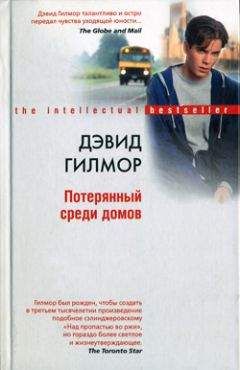Джон Ле Карре - Идеальный шпион
Внезапно мистер Маспоул вешает трубку. Пим бесшумно поворачивается на каблуках, готовый неспешно, но незамедлительно удалиться вниз по лестнице.
Его спасает новый шорох набираемого номера. На этот раз мистер Маспоул говорит с дамой — ласковым голосом он задает вопросы и мурлычет ответы. Так мистер Маспоул способен беседовать часами. Это его маленькая отдушина.
Подождав, пока голос начинает журчать с успокоительной непрерывностью, Пим возвращается на первый этаж. Темнота в комнатах Комитета пахнет чаем и дезодорантом. Дверь во внутренний дворик заперта изнутри. Пим осторожно поворачивает ключ и кладет его в карман. На лестнице, ведущей в подвал, воняет кошками. Ступени загромождены какими-то коробками. Ощупью пробираясь по лестнице и не желая зажечь свет из боязни быть замеченным кем-нибудь во внутреннем дворике, Пим мысленно перенесся вдруг в тот день в Берне, когда он, неся мокрое белье в другой подвал, чуть не налетел на герра Бастля и очень испугался. И сейчас он тоже спотыкается на нижней ступени. Наклонившись вперед, чтобы сохранить равновесие, он всей тяжестью падает на подвальную дверь и, чтобы не свалиться, толкает ее обеими руками. Ржавые петли скрипят. Инерции тела оказывается достаточно для того, чтобы влететь в подвал, где, к его удивлению, горит тусклый свет, что позволяет ему различить очертания зеленого шкафчика и перед ним женскую фигуру. Женщина держит в руке что-то наподобие долота и в неверном луче карманного фонарика рассматривает замки. Глаза ее обращены к нему — темные, непримиримые. В них нет ни малейшего чувства вины. И странное дело, кажущееся мне странным даже сейчас: ни минуты не сомневается он в том, что эта женщина с этим ее взглядом — напряженно-неодобрительным и в то же время спокойным — и есть закутанная в вуаль незнакомка, которая впервые бросилась ему в глаза после его триумфа на собрании избирателей Литл-Чедворта, а потом преследовала его на десятках других собраний и митингов. Спросив, как ее зовут, он уже знает ответ, хотя и не наделен даром предвидения. На ней длинная юбка, которая могла бы принадлежать ее матери. У нее жесткое решительное лицо и рано поседевшие волосы. Взгляд ее — смущающе прямой и ясный при всей его угрюмости.
— Меня зовут Пегги Уэнтворт, — с вызовом отвечает она, и в речи ее слышится густой ирландский акцент. — Может быть, сказать вам это по буквам, Магнус? Пегги — это уменьшительное от Маргарет, вам это известно? Ваш отец, мистер Ричард Томас Пим, погубил моего мужа Джона и, можно сказать, погубил меня. И всю свою оставшуюся жизнь я буду доказывать это и засажу негодяя за решетку!
Почувствовав за спиной у себя мерцанье какого-то нового источника света, Пим резко оборачивается. В дверном проеме стоит Мэти Сирл, и плечи его укутаны одеялом. Голова его повернута вбок, чтобы слушать здоровым ухом, а глазами он косит поверх очков — устремляет взгляд на Пегги. Что же он успел услышать? Пим понятия не имеет. Но паника делает его предприимчивым.
— Это Эмма из Оксфорда, Мэтти, — храбро заявляет он. — Эмма, это мистер Сирл, хозяин гостиницы.
— Очень приятно, — как ни в чем не бывало говорит Пегги.
— Эмма и я заняты в спектакле нашего колледжа, и премьера назначена через месяц. Вот она и приехала в Галворт, чтобы порепетировать со мной вместе. Мы думали, что здесь внизу мы вам не помешаем.
— Да-да, конечно, — говорит Мэтти. Глаза его перебегают с Пегги на Пима и обратно, проницательность их выражения разбивает вдребезги выдумки Пима. Мэтти направляется вверх по лестнице, и они слышат ленивое пошаркиванье его ног.
* * *Не могу тебе сказать, Том, когда именно и где она рассказывала Пиму ту или иную подробность своей истории. Первой его мыслью было выбраться из гостиницы, а для этого надо было куда-то идти. Поэтому они вскочили в автобус и очутились там, куда автобус довез их, а это оказалась территория старого порта — всю степень царившей здесь разрухи невозможно даже представить себе: пустые пакгаузы, проемы окон, через которые проглядывает луна, неподвижные краны и лебедки, торчащие из моря, как виселицы. Здесь же нашла себе пристанище группка бродячих точильщиков. Видимо, они привыкли днем спать, а по ночам работать, потому что мне помнятся цыганские лица, покачивающиеся над точильными колесами в то время, как ноги нажимают на педаль, и искры летят прямо в глазеющих детей. Мне помнятся девушки с мужскими мускулами, перекидывающие корзины с рыбой и выкрикивающие скабрезности, и рыбаки в глянцевитых робах, вышагивающие между ними так гордо, что смутить их, кажется, ничем не возможно и заняты они только собой. Я вспоминаю с благодарностью лица и голоса за окнами тюрьмы, куда вверг меня ее неумолимый монолог.
Возле стойки чайной на набережной, где они стояли, дрожа от холода в компании каких-то бродяг и сомнительных личностей, Пегги рассказала Пиму, как Рик украл у нее ферму. Она начала рассказывать, едва они очутились в автобусе, не заботясь о том, могут ли их подслушать, и продолжала рассказывать, без точек и запятых, все последующее время. Пим знал, что это чистая правда, правда ужасная, хотя подчас неприкрытая ненависть, звучавшая в ее голосе, заставляла его втайне сочувствовать Рику. Потом они гуляли, чтобы согреться, и она не унималась ни на секунду — и когда он заказывал ей бобы с яичницей в кафе морского клуба, носящем название «Пиратское», и потом, когда, расставив локти, она резала гренки и чайной ложечкой подливала себе соус. Именно тут, в «Пиратском», она рассказала Пиму о знаменитом Опекунском Фонде Рика, заграбаставшем девять тысяч фунтов страховки, выплаченной ее мужу Джону после того, как он попал в молотилку и потерял обе ноги ниже колена и пальцы на одной руке. Дойдя до этого момента в своем рассказе, она показала, до каких пор были ампутированы ноги на собственных своих тонких конечностях, — показала привычным жестом, не глядя, и Пим в который раз ощутил всю ее одержимость и в который раз испугался этой одержимости. Единственно кого я никогда не изображал тебе, Том, это Пегги, силящуюся приспособить свою ирландскую речь для подражания проповедническому краснобайству Рика, когда она пересказывала все его сладкоголосые уверения: 12,5 % плюс доход, голубушка, и это постоянно, каждый год, достаточно, чтобы обеспечить Джона до конца тех дней, что будут ему отпущены, обеспечить вас после его кончины и даже с избытком, который можно отложить, чтобы и мальчику вашему прелестному хватило, когда он пойдет в колледж изучать юриспруденцию, как и мой сынок, ведь они похожи как две капли воды! Рассказ ее напоминал сюжеты Томаса Гарди — случайные несчастья и потери, распределенные во времени мстительным Господом Богом с таким расчетом, чтобы достичь максимального впечатления абсолютного краха. И сама она была под стать героиням Гарди — влекомая своей страстью, которая одна определяет ее судьбу.
Джон Уэнтворт, помимо того, что оказался жертвой, был еще и ослом, объяснила она, готовым подчиниться первому попавшемуся обаятельному мерзавцу. Он сошел в могилу, уверенный в том, что Рик — его благодетель и добрый друг. Ферма его была владением в Корнуэле и называлась «Роза Фамари», где каждое пшеничное зернышко приходилось отбивать у жестоких морских ветров. Поместье это он получил по завещанию от своего более предусмотрительного родителя. Аластер, их сын, являлся его единственным наследником. Когда Джон умер, ни у одного из них не осталось ни пенни. Все было отдано, заложено и перезаложено, и в долгах они были, Магнус, по самые уши — испачканным бобами ножом она показала, как именно они были в долгах. Она рассказала о том, как Рик приезжал к Джону в больницу вскоре после несчастного случая. О цветах, конфетах, шампанском, а у Пима перед глазами вставала та корзина с фруктами, купленными на черном рынке, что стояла возле его койки, когда он сам лежал в больнице после операции. Он вспоминал благородную деятельность Рика в помощь престарелым, сослужившую ему такую хорошую службу во время Великой битвы. Вспоминал рыдания Липси, когда она кричала Рику, что он «фор», и письма Рика к ней, в которых он обещал о ней позаботиться. «А мне оплачивал проезд по железной дороге, чтобы я могла приезжать в больницу Труро и навещать Джона. А потом, Магнус, ваш отец сам отвозил меня домой, тогда он на все был готов, лишь бы прикарманить денежки моего мужа». А как терпелив был отец с Джоном, как по многу раз втолковывал ему, объяснял то, чего Джон не мог понять, и объяснял бы еще и еще, но Джон ничего не хотел слушать — заблуждающиеся всегда легковерны и не желают шевелить мозгами.
Внезапно ее охватывает ярость.
Я встаю в четыре утра на дойку и заполночь корплю над бухгалтерскими книгами, — вопит она, и пьяницы за соседними столиками поднимают поникшие головы и обращают к ней совиные глаза, — а этот болван в больнице Труро, лежа в теплой постели, не сказав мне ни слова, за здорово живешь отписывает все вашему папаше, дежурящему возле него и строящему из себя святого!