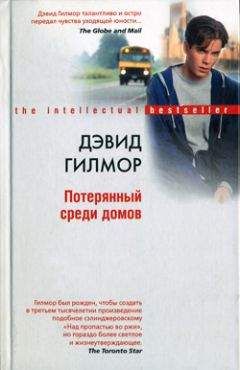Джон Ле Карре - Идеальный шпион
Я встаю в четыре утра на дойку и заполночь корплю над бухгалтерскими книгами, — вопит она, и пьяницы за соседними столиками поднимают поникшие головы и обращают к ней совиные глаза, — а этот болван в больнице Труро, лежа в теплой постели, не сказав мне ни слова, за здорово живешь отписывает все вашему папаше, дежурящему возле него и строящему из себя святого!
У моего Аластера даже ботинок не было, чтобы ходить в школу, а вы катались как сыр в масле и учились в лучших школах, и одевались, как лорд, Господи прости! Потому что, как и следовало ожидать, после смерти Джона выясняется, что по причинам совершенно объективным и ни от кого не зависящим знаменитому Опекунскому Фонду Рика пришлось испытать временные трудности с платежами и он был не в состоянии обеспечить клиентам их 12,5 процентов плюс годовой доход. Даже возвратить вложенные капиталы он не в состоянии. И Джон Уэнтворт, дабы помочь преодолеть эти трудности, уже перед самой кончиной принимает мудрое и предусмотрительное решение: он закладывает ферму вместе с землей и скотом и чуть ли не с женой и ребенком, чтобы отныне никто ни в чем не нуждался, а полученную сумму передает своему старинному приятелю и другу Рику. А этот Рик привозит из Лондона известного адвоката по имени Лофт — специально, чтобы разъяснить все последствия этого мудрого шага Джону на его смертном одре. И Джон пишет еще своею собственной рукой длинное сопроводительное письмо, в котором заверяет всех, кого это может коснуться, что решение им принято в здравом уме и твердой памяти, а никак не по принуждению со стороны благодетеля и его адвоката и что таково его последнее слово. Все это на случай, если Пегги или, не дай Бог, Аластеру когда-либо придет в голову дикая мысль оспорить документ в суде, попробовать получить назад принадлежавшие Джону 9000 фунтов или каким-нибудь иным образом усомниться в бескорыстном участии Рика, приведшем Джона к его краху.
— Когда это все произошло? — спрашивает Пим.
Она называет ему даты, называет день недели и час. Из своей сумочки она вытаскивает пачку писем, подписанных Перси, где выражается сожаление о том, что «контакт с господином Президентом, мистером Р. Т. Пимом, в настоящее время невозможен, так как на неопределенное время он вынужден был отлучиться по делам государственной важности», но дается заверение в том, что «документам касательно владения „Роза Фамари“ сейчас дан ход и целью всей работы с ними является возможное получение вами большой прибыли». Они сидят, съежившись от холода, на сломанной скамейке, и он при свете уличного фонаря читает эти письма, а она следит за ним глазами, холодными от бешенства. Потом она отбирает у него письма, кладет их в конверты, аккуратно, с любовью расправляя уголки и разглаживая. Она продолжает говорить, а Пиму хочется заткнуть уши и зажать ей рот. Хочется вскочить, кинуться к волнолому и утопиться. Хочется крикнуть: «Заткнись!» Но все, что он себе позволяет, это попросить ее — пожалуйста, очень вас прошу, не могли бы вы не рассказывать мне об этом больше?
— Это еще почему?
— Не хочу больше слушать. Дальше это уже не мое дело. Он ограбил вас. Какая разница, что было дальше? — говорит Пим.
Пегги не согласна. С ирландской маниакальностью она мучается своей виной и пользуется присутствием Пима, чтобы заняться самоистязанием. Речь ее льется потоком. Именно эту часть рассказа предвкушала она больше всего.
— Почему бы и нет, если мерзавец и без того опутал тебя? Если и без того он обхватил тебя своими гадкими щупальцами так же цепко, как если б это было в его спальне со всеми этими кружевами, финтифлюшками и драгоценными зеркалами? — Она описывает спальню Рика на Честер-стрит. — Если и так ты в его власти и принадлежишь ему душой и телом, ты глупенькая одинокая женщина с болезненным ребенком на руках, у которой никого, никого нет в этом мире и не с кем даже слова молвить, кроме идиота судебного пристава раз в неделю?
— Мне достаточно знать, что он обманул вас, — настаивает Пим. — Пегги, пожалуйста! Остальное уже личное!
— Личное, если он вызывает вас в Лондон, сразу же по прибытии после всех своих дел государственной важности, все честь по чести и с шиком, присылает лучшие билеты на лучший поезд, боясь, что ты напустишь на него адвокатов? Что ж, ты и поедешь, разве не так? Если уже два года, и больше, не имела мужчины, и вот оно, твое тело — ты видишь в зеркале, как с каждым днем оно все больше чахнет и увядает, разве не поедешь?
— Конечно, конечно! Я уверен, что у вас были на то веские причины, но не надо больше!
И опять она имитирует голос Рика:
— «Давайте разберемся с этим, раз и навсегда, Пегги, голубушка! Я не хочу, чтоб между нами были какие-то обиды и недоговоренности в то время, как моим единственным стремлением всегда было не что иное, как стремление к вашему благу, и только оно одно». Ведь ты поедешь, правда? — Голос ее эхом отдается в пустоте площади и над морской водой. — Ей-богу, ты поедешь! И ты собираешь вещи, берешь сынишку и запираешь дверь, полная желания вернуть назад свои деньги и добиться справедливости. Ты спешишь со всех ног, уверенная, что сцепишься с ним не на жизнь, а на смерть, едва увидев его. Ты забываешь и о стирке, и о грязной посуде, и о дойке, и о всей той убогой жизни, в которую он тебя вверг. И ты поручаешь идиоту приставу дом и вместе с Аластером мчишься в Лондон. А в Лондоне вместо того, чтобы в присутствии мистера Перси и этого проходимца Маспоула и всей этой банды сесть с тобой за стол переговоров, человек покупает тебе на Бонд-стрит роскошную одежду и возит тебя в лимузинах, как принцессу, и все к твоим услугам — рестораны, шелка и шикарное белье, хватит ли у тебя после этого духу скандалить?
— Не хватит, — говорит Пим. — Тут уж или — или!
— Если он все эти годы втаптывал тебя в грязь, разве ты не захочешь хоть немножечко урвать от него в отместку за все то горе, что он причинил, за все те деньги, что он у тебя выманил? — И опять она имитирует Рика: — «Я был всегда неравнодушен к вам, Пегги, и вы это знаете. Вы молодец, вы лучшая из всех женщин! Я всегда заглядывался на эту вашу прелестную улыбку, и не только улыбку». Дальше больше. Он и мальчика обхаживает. Везет его в «Арсенал», и мы сидим там как бог знает кто, в лучшей ложе рядом с лордами и прочими знаменитостями, а после — обед в «Квальино» с Народным Избранником и громадный торт, на котором написано «Аластер», и надо видеть, какое при этом у мальчика лицо. А на следующий день вызывается лучший специалист с Харли-стрит, чтобы разобраться, почему это мальчик кашляет, и Аластеру дарят золотые часы с выгравированной на них надписью. «Милому мальчику от Р.Т.П.». Надо сказать, они удивительно похожи на те, что сейчас на вас, они ведь тоже золотые, верно? И когда мужчина столько для вас сделал, а при этом он подонок, что ж, через день-другой вам остается только признать, что бывают подонки и много хуже. Ведь у большинства из них и корки хлеба не допросишься, не говоря о громадном торте, который сам плывет вам в руки в «Квальино», а потом нанимается кто-то отвезти мальчика домой и уложить, чтобы взрослые могли еще отправиться в ночной клуб и повеселиться. Почему бы и нет, если он всегда был ко мне неравнодушен? Разве большинство женщин на моем месте не отложили бы скандал на пару деньков даже за часть всего этого? Так почему бы и нет?
Она говорит так, словно Пима больше нет рядом, и отчасти она права. Он оглушен и все-таки слышит. Как слышит и сейчас этот монотонный, неумолимый голос. Она говорит, обращаясь к стенам какого-то заброшенного рынка, где продают скот, к его загонам и вставшим часам, и Пим молчит, мертвый, бездыханный, он не здесь, он далеко отсюда. Он в «Дополнительном доме», он младшеклассник, и слышит голос Рика на повышенных тонах, и его будят рыдания Липси. Он в постели Дороти в «Полянах», и ему до смерти скучно и надоело из-за ее плеча глядеть в окно на белесое небо. Он в Швейцарии на каком-то чердаке, и сам удивляется, зачем погубил друга и подольстился к врагу.
Безумная сама, она описывает безумие Рика. Голос ее, сердитый, монотонный, льется неумолчным потоком, и Пим ненавидит его всеми силами души. Каким хвастуном был этот человек. Как он врал на каждом шагу. Что был любовником леди Маунтбэттен и что она клялась, будто он лучше самого Ноэла Кауарда. Как его хотели сделать послом во Франции, но он отказался, потому что терпеть не может всех этих снобов. И про этот дурацкий зеленый шкафчик с его кретинскими секретами. Представьте себе только — какое безумие тратить долгие часы на то, чтобы собственноручно вить веревку, на которой его повесят! И как он потащил ее раз к этому шкафчику, босиком, в одной ночной рубашке — погляди, деточка! Он называл это своим досье. Все добро и зло, которое он совершил. Все доказательства его невиновности, все свидетельства этой его чертовой правоты. И что когда его будут судить, а судить его, несомненно, будут, все бумаги, хранящиеся в этом дурацком шкафчике, будут рассмотрены, оценены и приняты во внимание, все — и доброе, и злое, и тогда мы увидим его в истинном свете, ангелом небесным во всей его ангельской сущности, в то время как мы, несчастные грешники, внизу, обливаемся кровью и потом и голодаем во имя его. Вот ведь что он придумал, дабы самого Господа Бога обвести вокруг пальца. Ни перед чем не остановился, вообразите себе только подобную наглость, баптист несчастный!