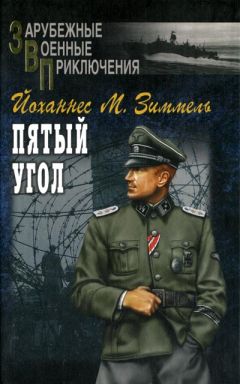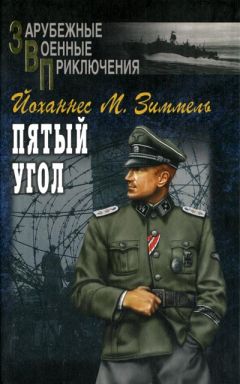Александр Авдеенко - Горная весна
Иванчук вытер пот, ручьисто бегущий по лицу, с тоской посмотрел на радиоприемник:
— Хоть бы Танечка подала свой ангельский голосок, подбодрила!
И, словно выполняя его желание, диспетчер сочувственно, с материнской тревогой спросила:
— Тринадцатая, как у вас дела?
«Карабкаемся в гору, — мысленно проговорил Олекса. — Весь хребет в мыле, а все-таки карабкаемся».
— Тринадцатая, я спрашиваю, как у вас дела?
— Все в порядке! — сдержанно, обыкновенным голосом ответил Олекса.
— Очень хорошо. Уверена: так будет и дальше, до самой Дубни.
«Милая ты моя Танечка!..»— про себя воскликнул Олекса и похлопал ладонью по черному ящику радиоприемника.
«Галочка» вдруг задрожала: бешено, вхолостую завертелись колеса. Олекса решительным движением реверса утихомирил машину, заставил ее двигаться в прежнем темпе. Но надолго ли хватит «Галочке» этой разумной покорности?
Паровоз еще раз забуксовал. И тут не выдержал даже скромный, молчаливый Микола:
— Олекса, — закричал он, — почему же ты терпишь такое?.. Посмотри на трубу твердохлебовского паровоза! Она еле-еле дымится. Он за счет нашей «Галочки» лезет на Всрховину.
— Все вижу, дорогой Микола!
— Так чего же ты молчишь? Дай ему сигнал, пусть помогает нам в полную силу.
— Вытянем и сами. Иванчук поддержал товарища:
— Зачем же нам надрывать свою машину одной тягой?
— Ничего, выдержим! — Олекса помолчал, сосредоточенно глядя на ребристые скалы, вытеснившие с берегов Каыеницы пе пельно-серебристые колонны буков. — Должны выдержать. Такую уж мы себе выбрали долю. Комсомольскую.
Миксла Довбня опустил голову.
Андрей Лысак подумал: «Чего ты зря скромничаешь, дурак? Разве ты меньше знаменит, чем Твердохлеб? Если бы я был на твоем месте, я б этому старику такой скандал устроил — век бы помнил».
— Внимание, тринадцатая! — послышался голос диспетчера. — На Медовой короткая остановка. Скрещение. Предупреждаю: вам все время наступает на пятки пассажирский Прага — Москва. Может быть, пропустим его вперед?
— Ни в коем случае! — запротестовал Олекса. — Не догонит. Уйдем.
— Значит, договорились: до самой Дубни вы — впереди, за вами — пражский.
Горы начали раздвигаться, а голые скалы снова сменились буковым лесом. Каменица потекла шире, чуть спокойнее, пенистыми струями разливаясь по гранитному плитняку. Поезд набирал скорость и через несколько минут выскочил на площадку небольшой трехпутной станции. Выходной ее семафор был закрыт.
— Вот и знаменитая станция Медовая, — объявил Олекса, меняя старенькую шапку на щегольскую фуражку.
Он остановил паровоз у беленного известью контрольного столбика. Похлопав ладонью по горячему вороненому кожуху топки, скомандовал:
— Привести в порядок топку. Смазать машину. Живо!
Иванчук схватил масленку, стремглав спустился вниз, на землю. Довбня достал с тендера пику и резак, стал выламывать в топке слой шлака и удалять его.
Олекса, с дышловым ключом в одной руке и молотком в другой, обошел со всех сторон «Галочку». Он с удивлением приглядывался к машине. Странно выглядела она здесь, на неуютных станционных путях, с неподвижными колесами. Не верилось, что она всего несколько минут назад тащила тяжелый поезд.
Олекса посмотрел на кочегара, стараясь угадать, то ли самое, что и он, испытывает Иванчук. Тот деловито щелкал пружинными крышками букс, заливал в них смазку.
— Ну, что скажешь? — спросил Сокач, кивая на белоснежные колеса паровоза.
— Работяга! — сказал Иванчук и улыбнулся. — Двойную нагрузку выдержала.
— Бррр, ну и холодина! — проворчал Андрей Лысак, спускаясь с паровоза на землю. Подняв воротник комбинезона, он с брезгливым выражением лица вглядывался в склоны гор, покрытые голыми садами и разбросанными среди них домиками, из труб которых поднимался дым. — Вот так Медовая! — сказал он насмешливо. — Чем же она знаменита?
— Пчелами. Медом. Розами, — ответил Сокач. — Минеральной водой. Красивыми девчатами. Соловьями.
— Не чую ни медовых, ни розовых запахов, не слышу соловьиных голосов, не вижу красивых девок. Бррр!
Практикант засеменил к лестнице, скрылся в теплой паровозной будке. Вслед за ним поднялись на паровоз Иванчук и Сокач.
Из приземистого здания станции Медовая вышел главный кондуктор. Он поднял над головой жезл:
— Поехали, сынки!
Иванчук и Довбня, не ожидая команды Сокача, открыли вентиль сифона, стали заправлять топку, качать воду. Зашумело, загудело веселое пламя. Энергичнее, злее зашлепал насос, нагнетающий вбздух в тормозную магистраль. Дрожь рабочего нетерпения охватила белоногую, вороненую, подпоясанную золотыми обручами «Галочку». Ожила машина, похорошела. И следа не осталось от ее праздного вида.
Сокач дал сигнал отправления. Через минуту поезд уже на всех парах мчался по станционной площадке, по дну узкой долины.
На склонах гор, покрытых прошлогодней, побитой морозом травой, паслись отары овец и горели большие костры, окруженные пастухами.
Круче стала железная дорога, порывистее боковой северный ветер, прорвавшийся сюда из-за Карпат, через ущелья.
Еще кривая, еще поворот, темное ущелье, сырая скала, суровые каменные ворота в новую долину — и во всей своей красе открылись горы. Карпаты теперь поделены на ряд этажей: пятый, верхний, — снега, четвертый — голый лес, третий — мшистые, по-летнему с прозеленью скалы, второй — железная дорога и самый нижний, первый, — Каменица.
Несколько часов подряд Каменица несла свои воды навстречу поезду, почти у самых его колес. Сейчас она пенится метров на пят
надцать ниже, на дне узкой долины, и с каждым километром уходит дальше и глубже.
— Подхожу к станции Буйволец, — отрапортовал Сокач по радио. — Прошу сократить стоянку на двадцать минут.
— Не много ли? — обеспокоилась Таня.
— Сэкономим на водоснабжении и на осмотре машины.
— Хорошо, — согласилась она.
Дорога вырвалась из цепи ущелий и лесов на плоскогорье горного хребта, на самую низкую ступеньку карпатских перевалов, на станцию Буйволец, одетую в пухлые чистые снега.
Набрав воды, двинулись дальше. Теперь уже тройной тягой: два паровоза в голове, один в хвосте, толкачом.
Кочегару Иванчуку захотелось похвастать перед Лысаком своими знаниями. Он кивнул за окно, сказал:
— Запоминай профиль, товарищ практикант. Сейчас начнем карабкаться на главные Карпатские горы. Если напрямик, пешком двинуться на перевал, так километров семь будет, а по железной дороге — все сорок. Каждый километр железной дороги возвышается над другим на тридцать два метра.
День был на исходе. Солнце, с утра пропадавшее то в непроглядном тумане, то в дождевых тучах, то в снегопаде, вдруг показалось над голым плоскогорьем — неправдоподобно большое, круглое, пожарного накала, солнце горных хребтов. И в его свете сразу преобразились по-зимнему заснеженные Карпаты. Теперь хорошо была видна настойчивая, горячая работа весны. Оказывается, не всю землю Верховины держал снег в своем плену: во многих местах она чернела, там и сям, по южным склонам, зеленели лужайки. Только северная сторона гор, их спина, одета в зимние шубы.
И не снежные наметы, оказывается, белели по берегам Каменицы, а ряды разостланных холстов. Лохматые ели давали приют не только темноте, но и зеленому свету. И снежный покров вовсе не зимний, а изъеденный весенними ручьями: ноздристый, похожий на медовые соты, обласканный майским теплом.
— Внимание, тринадцатая! — прозвучал в радиоприемнике голос диспетчера, такой же веселый, согретый солнцем, как и все вокруг. — Даю «зеленую улицу».
Сейчас же за выходными стрелками станции Буйволец поезд пошел по узкому каменному карнизу, вырубленному по склону гор. На пути «Галочки» часто появлялись пропасти, глубокое ущелье с Каменицей на дне, сухой овраг, промытый весенними потоками горных вод, — и всюду переброшены мосты. Их было немало: иногда по три на километр пути. Железобетонные быки несли на себе голубоватые стальные фермы, вмещающие сразу по двадцати вагонов. Далеко внизу, на дне пропастей и ущелий, лежали горы бревен — остатки разрушенных мостов времен войны и ржавые массивные ребра конструкций, подорванных фашистскими дивизиями: «Эдельвейсами», «Кенигсбергами», «Шварцерадлерами». Гусеничные тракторы, попыхивая синим дымком, растаскивали стальной хлам. Автомобильные краны грузили многотонные обломки на самоходные платформы. Андрей Лысак, не отрываясь, смотрел в окно и записывал.
Не сбавляя скорости, «Галочка» пронеслась мимо двух станций, проскочила один мост, потом другой, третий… По краям мостов стояли большие пожарные бочки. Вода в них не шелохнулась, когда колеса тяжеловесного поезда пересчитывали стыки рельсов.
— Работа наших восстановителей! — с гордостью сказал Сокач, оборачиваясь к Лысаку. — Итальянцы двенадцать лет строили закарпатские, на курьих ножках, мосты, а наши за два года управились. Иностранцы ахают при виде наших мостиков. Видишь, проносимся по ним на полной скорости со спокойной душой. А как раньше здесь ездили австрийцы, мадьяры, поляки, чехи, немцы? Ползком. Крадучись. И только днем. Один поезд утром. Один в полдень. Один в обед. Парочка после обеда. И все. Ночью, говорят, движение в Карпатах замирало. Не железная дорога была, говорят, а вьючная тропа. Рельсы слабенькие, балласт отработан. На каждом километре предупреждение: осторожно, малый ход, опасно! Едет бывало машинист, а сам все назад оглядывается: не сошли с рельсов вагоны? А мосты ходуном ходят под паровозом, стонут, скрипят, вот-вот рассыплются. Въедешь на один конец моста, а на другом вода из пожарных бочек выплескивается. Вот тебе и западная техника!.. — Олекса засмеялся и смачно плюнул в угольный лоток.