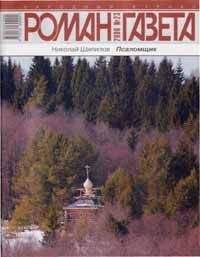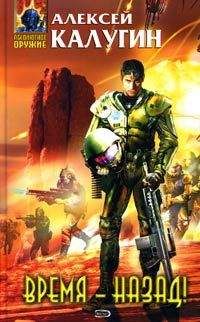Иван Дорба - В чертополохе
— Полегесенько и пийду до корыша на Грязькову вулыцю.
— Не Грязькову, а Грядкову, от вокзала подняться по улице, которая называется Внебовстомпеня.
— Внебовстомпеня! Какая прелесть! Скажите, а где улица Крашевского? — спросил Олег.
— Крашевского? Это у парка Костюшка.
— Так вот, Иван, — отведя Бойчука в сторонку, наказывал Олег, — на Крашевского, 6 до войны жил мой знакомый, Гацкевич, узнай, там ли он еще. Дашь ему вот эту записку, скажешь, что я лежу больной, что мы приехали из Варшавы, на демаркационной линии у нас отобрали документы, а мы, воспользовавшись тупоголовостью охранников, вместо того, чтобы вернуться назад в Польшу, сели во львовский поезд и вышли, боясь проверки документов, в Баратуве. Запомнил? В Баратуве. Об Абраме ничего пока не говори. Там, в Баратуве, заболел. Оттуда ты перевез меня к своему знакомому. Ясно? — И Олег хлопнул Бойчука по плечу.
— Ясно! Крашевского, шисть, Гацкевич, хай вин сказываться…
— Верно. Скажи еще, что он получал от меня письма для Владимира Владимировича, а фамилию он должен сам вспомнить.
— Отдаю записку. Мы приехали из Варшавы, потом эта самая линия, станция Баратуво, письма от Владимира Владимировича, а фамилия?
— А ты, Иван, хорошо говоришь по-русски!…
— Скажи лучше, шо мы делали у Варшави?
— Мы с тобой познакомились в поезде, а о себе придумывай что хочешь, чтобы складно было, Гацкевич — воробей стреляный.
— А шо за чоловик?
— Сам толком не знаю, будь с ним осторожен…
Василь Трофимчук, услышав последний совет, снова обратился к Бойчуку:
— Комендантский час с десяти вечера и до шести утра. Ночью ходят патрули. Поймают и тут же застрелят! В бывшем здании воеводства, что на улице Чернецкого, — дискрикт, там выдают пропуска и разрешения на пребывание в районах, где размещены офицеры СС и вермахта — войсковые. Продажа по талонам, нашему брату полагается: хлеба граммов двести в день, шестьдесят граммов маргарина, полтора килограмма мяса и тридцать штук папирос в месяц.
— Ого! А сырнычкы?
— Две коробки в месяц! И смотри в оба, на черном рынке еще можно кое-что купить, но повторяю: за спекуляцию — расстрел! Пачку аспирина нельзя купить, в порядочный кинотеатр украинцу запрещено ходить! В театры! А ты, Абрам, запомни, — Василь обернулся к Штольцу, — гетто находится в районе Подзамча…
— Можешь не повторять, мы все запомним, у нас память хорошая! — И его глаза недобро сверкнули.
«Да, он все запомнит, запомнят и украинцы, запомним и мы, русские, крепко запомним!» — подумал Чегодов.
— Ну ладно, — сказал он, — завтра рано вставать!
На рассвете Бойчук ушел. До Львова было недалеко, километра четыре. Условились, что Иван в городе заночует, а на другой день к вечеру придет обратно. Однако прошел день, второй, третий, а он не возвращался. На рассвете четвертого дня, лежа в кровати, заметив, что Олег не спит, Штольц, которому тоже не спалось, заговорил:
— Слушай, друг, шма хавэр, как говорят евреи, что будем махен? Как сквозь землю провалился наш Иван. Завтра пойду его искать на Внебовстомпену!
— А как зовут его дружка? Не знаешь?
— Рыжий Штраймел с Болони!
— Прямо как граф Манте-Кристо. А Штраймел, это что-то по-еврейски?
— Это обшитая мехом бархатная ермолка, которую носят реби. А Львов я знаю хорошо, не раз бывал и на Болонях.
— Пойдем вместе! Веселей! Я все-таки говорю по-немецки и по виду ариец. Со мной надежней. Жаль, не те у нас документы. Может, что переделать? — И Чегодов вытащил из кармана военные билеты, взятые им у убитых в Злодиевке немецких солдат. — Мы напрасно побросали в лесу автоматы и униформу. Уж очень противно было ее надевать! И фотокарточек наклеить нету.
— Сначала арестуют как дезертиров, а потом выяснят, кто мы, и пустят в расход. Я ведь по-немецки ни бум-бум. Знаю только «гутен таг» и «ауф видерзеен» и то с еврейским прононсом. И лучше уж я один пойду, — заспорил было Штольц.
— Не упрямься, Абрам, пойдем вместе. Хозяина нашего пора избавлять от непрошеных, опасных гостей. Он молчит, но переживает…
И тут Чегодов услышал какой-то шорох. Скрипнула калитка. Выхватив из-под подушки пистолет, Олег кинулся к двери, которая вела в кухню, и столкнулся на пороге с Бойчуком. Они обнялись.
— Ну, слава Богу! Я уж думал, что ты влип.
— Все у порядку! Нимци дурни, шлях их трафыв! Дурни аж свитятся! Будемо мати ксивы и мешканя у Львови. Ось!
— Гацкевич? — спросил Чегодов, беря в руки документы.
— Твий Гацкевич, як нимци кажут, чоловик з фелером. Фашисту продався. Похвалявся, шо буде головою Витебска, бургомистром, як размовляют нимци. Казав: «Пока можете у меня устроиться. Никто вас не тронет. Завтра вечером буду вас ждать!» Кокнуть бы його гада! А помешкання нам знайде и Штраймел, корыш мий.
— Ну, лады, ложись отдыхай. Нам вставать рано.
Через пять минут Бойчук уже храпел вовсю, а Олег еще долго рассматривал принесенные документы с печатью и подписью бургомистра и завизированные немецкими властями. Аусвайс Бойчука не вызывал сомнения даже у опытного глаза, два других были обычными пропусками, в которых значилось, что «имярек» разрешается посетить в деревне такой-то своих родичей. Фамилии были изменены; он, Олег, значился как Захар Непомьятайко, а Абрам Штольц — Арамом Григорьянцем.
«С Гацкевичем придется встретиться, только бы он ничего не заподозрил и не раскусил Ивана, через него свяжусь с энтээсовцами. Они-то ничего не знают. А если он меня выдаст фашистам и те возьмутся за меня, то выколотят все, церемониться не будут, как мой следователь в Черновицах. Не выдержу, ребят подведу! С НТО мне не по пути! Так с кем же тебе, Олег, по пути? С Хованским… конечно… с Красной армией!… С русскими людьми!»
На дворе прокричали петухи, в окнах серело. Где-то в соседнем дворе брехала собака.
Глава седьмая.
«В КРУГЕ ВТОРОМ»
Если изменник к поле пристанет, то полу отрежь.
Грузинская пословица1
— Не ожидали, дорогой Олег Дмитриевич, увидеть меня здесь, а? — протягивая руку и с любопытством глядя на Чегодова, сказал Брандт, подходя к остановившемуся на пороге гостю. — Что-то похудели вы очень. Мы с вами в последний раз виделись лет пять, наверно, тому назад. И я старею, мой друг, давно уже за полсотни перевалило, — и он поправил спадавшие на лоб пышные седые волосы. — Хотел сам к вам ехать в село, да ваш уполномоченный конспирацию развел. Чудак! Уж очень осторожничал. Ваша школа! Садитесь, садитесь.
— Я к Гацкевичу, Владимир Владимирович! И вдруг такой сюрприз — вижу вас! — удивлялся искренне Чегодов, глядя на Брандта. — Немцы чуть было в Перемышле не задержали…
— А я недоумеваю, неужто не знает про Гацкевича! Он оставался во Львове при большевиках и был арестован. Вам Байдалаков не сказал, что прежде, чем попасть на восток, следует пройти у немцев школу? Стояли же наши пражские эмтээсовцы «носом к стенке», сидели часами на скамейках в позе «смирно» и ползали «на карачках» перед тюремными надзирателями. Проделывал все это в Варшаве и я, теперь придется «доказать немцам свою благонадежность» и вам, дорогой Олег Дмитриевич! Откуда, кстати, вы появились? Я ждал не вас, а какую-то женщину, Ару Шишкову.
— Ширинкину!
— Да, правильно, Ширинкину! Поручено ввести ее в курс и уехать в Витебск. Там планируется обосноваться нашему перевалочному пункту во главе с Гункиным и Кабановым, там же работает главным врачом городской больницы сестра Георгия Околова — Ксения Сергеевна. А вам, если документики тютю, придется потрудиться. Столько было о вас разговоров! А с приездом из Румынии Околова все было приглушено. Вы ведь в Бессарабии печатной пропагандой заправляли? Как там у вас с типографией?
— Трудно… А откуда взялся Кабанов?
— Как откуда? Это смелый человек. Накануне войны он был в Кишиневе, задержан, но ему удалось бежать.
«Да, смелый, — усмехнулся про себя Чегодов. — Но побег этого труса действительно удивителен».
— В Берлине Байдалаков хвалил вас. В июне сорокового года вас ведь тоже, как и Кабанова, направили в Бессарабию и в Буковину. Правильно? Вам поручили организовать радиостанцию и подпольную типографию, вы печатали и распространяли среди бойцов Красной армии наши листовки. Верно? Как видите, мне о вас кое-что известно. Вергун сетовал, что связь с вами по радио так и не была установлена…
— Портативная радиостанция, Владимир Владимирович, была взята пограничниками возле Измаила. Тогда же схватили молодого парня, а Лукницкий спасся только чудом. Листовок мы не печатали…
— Ах вот почему с приездом Околова разговоры на эту тему приглушили! Здесь работенка преотвратная. Не то что бабе — мужику не под силу. Будете «подсадной уткой» в камере строгого режима и выявлять коммунистов, их секреты. Что поделаешь, нужно! — Он ухмыльнулся. — Режим в тюрьме тяжелый, действует на психику, две недели работаешь, месяц отдыхаешь. Очень трудно, но ко всему привыкаешь. Долго вас держать не станут, одно-два удачных дела — и все в порядке. Меня наградили за заслуги — посылают вроде бургомистром в Витебск. А вам, по чину, Киев могут дать. — Его свиные глазки смотрели испытующе. — Работать надо. Партизаны на Львовщине появляются. Наглеют.