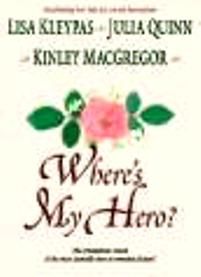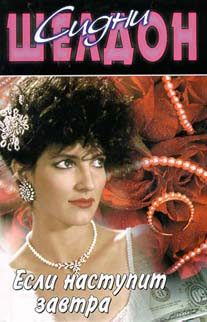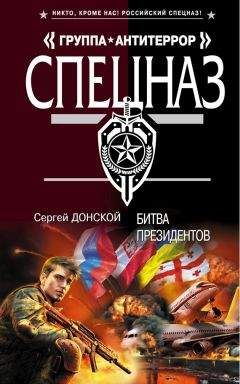Сергей Донской - Если завтра не наступит
– Никогда.
– У меня имеются иные сведения.
– Никогда я не напишу того, что вы требуете, – продолжал старый писатель, проигнорировав реплику Тутахашвили. Вспомнив вчерашнего спутника дочери и ее сияющие глаза, он повысил голос: – Доносы не по моей части. Я жил честно и умру честно.
Полковник засунул мизинец в левое ухо и сильно потряс им, словно серная пробка мешала ему уловить смысл услышанного.
– Что?
– Я, – отчеканил старик, – умру… честно…
– Это может произойти не так скоро, как нам обоим хотелось бы, – печально произнес Тутахашвили, рассматривая мизинец. – Предлагаю подписать.
– Нет.
Голова Галишвили кружилась, и он с большим трудом держался прямо, подозревая, что в любой момент может потерять сознание. Сердце то умолкало, то вновь напоминало о себе, колотясь о грудную клетку.
Полковник подошел и, не говоря ни слова, ударил старика по лицу. Браслет его часов зацепился за ушную раковину Галишвили, и тому показалось, что оно оторвалось. Но молоток не был пущен в ход, и это уже хорошо, подумал он, вцепившись венозными руками в сиденье стула. Его подташнивало. Комната шла кругом, то темнея, то светлея. Ее пересекла черная фигура полковника и открыла дверь:
– Гурген! – рявкнул он. – Увести арестованного. В карцер его. Пусть пока посидит один, подумает о своем житье-бытье.
Временами проваливаясь в беспамятство, Галишвили смутно осознавал, что его волокут по коридору, потом по ступеням лестницы, уходящей вниз. Едкий запах испражнений, пота и грязи усиливался, лампочки на потолке становились все тусклее и тусклее, а сам потолок опускался ниже, норовя раздавить хрипящего старика. Но он уже был раздавлен, уничтожен, убит обрушившимися на него испытаниями. И на бетонный пол он упал, как самый настоящий труп. И не почувствовал, как чужие жадные руки обшарили его карманы.
Но когда дверь захлопнулась, Галактион Галишвили все-таки инстинктивно вздрогнул. Это упала та самая крышка гроба, которая нависла над ним в утреннем кошмаре. Плохой сон сбылся, а жизнь, как водится, не состоялась. И было некуда деваться от этой угнетающей закономерности. Лишь пустота и мрак вокруг, пустота и мрак.
Смерть шпионам!
На проверку загадочная бозартма оказалась невероятно жирным, густым супом из баранины, кислым от обилия помидоров и гранатового сока. Зачерпнув пару ложек, Бондарь подумал, что в следующий раз, когда ему предложат угоститься бозартмой, он попросит принести что-нибудь пожиже и попрозрачней. Впечатление было такое, будто хлебаешь один из столь любимых грузинами соусов.
– Много лука, – посетовала Лиззи, кривясь. – I hate the onions. Ненавьижу лук.
– Не ешь, – пожал плечами Бондарь.
– Но мне гольодно!
– Тогда не привередничай. – Новое пожатие плечами.
– Ты есть очьень заботлив, – съязвила Лиззи.
Бондарь не ответил, уткнувшись в тарелку. Все, что можно было увидеть в этом гулком, как зал ожидания, ресторане, он уже увидел. И чахлые пальмы в рассохшихся кадках, и подозрительные пятна на скатертях, и засаленные курточки официантов. Не вызывала энтузиазма сидящая напротив американка, похоже, втрескавшаяся в Бондаря по уши. Что не помешало ей жадно проглотить похлебку и попросить добавки.
– Таких не берут в самураи, – обронил Бондарь, закуривая.
Аппетита не было. Если чего Бондарю и хотелось, так это повидаться с Тамарой. По его глубокому убеждению, эта женщина стоила десятков таких, как Лиззи, а может быть, и сотен. Журналистка Тамара Галишвили была настоящая, вот в чем дело. Американка же постоянно сбивалась на фальшь, то слащаво сюсюкая, то манерничая, то изображая из себя кого-то другого. Голливудская школа, думал Бондарь. Чем мельче личность, тем больше ужимок, призванных скрыть это. Не потому ли почти все американские актеры гримасничают, жестикулируют и трещат без умолку, как на восточном базаре, вместо того чтобы проявлять искренние чувства?
– Почьему ты вспомнил про samurai? – полюбопытствовала Лиззи, опустошившая тарелку с завидной скоростью.
– Они полагали, что необходимо быть умеренным в еде и избегать распущенности, – пояснил Бондарь.
Недавно ему попалась любопытная книженция о бусидо – неписаном кодексе поведения истин-ного или идеального воина. Самурай, воспитанный в духе бусидо, должен был четко осознавать свой моральный долг, взвешивать любые свои действия и поступки и, если обстоятельства вынуждали его потерять честь, добровольно уйти из жизни посредством харакири. Таким образом воин смывал кровью позор и бесчестье. Автор статьи предположил, что неплохо бы ввести этот обычай среди сильных мира сего, и Бондарь был полностью с ним согласен. Даже если бы животы проштрафившимся политикам вспарывали без их согласия. Главное – результат.
– Не люблью самураи, – обронила Лиззи, промакая губы салфеткой. Помада, размазавшаяся по подбородку, делала ее похожей на вампиршу, слегка утолившую голод.
– Почему? – спросил Бондарь.
– Они эттэкс… атаковать эмэрикан корабли в самольетах. Бьезумство.
– Ты говоришь о камикадзе.
– Maybe, – беззаботно согласилась Лиззи. – Можьет быть. Есть разньица?
– Не каждый камикадзе – самурай, но каждый самурай способен стать камикадзе, – ответил Бондарь. Официант не торопился со вторыми блюдами, и он позволил себе развить мысль: – Верность, справедливость и мужество – это три природные добродетели самурая, именуемые в Японии «благородством». Камикадзе необязательно должен быть справедлив. Ему достаточно фанатичной преданности и отваги. В общем, как писал классик, безумству храбрых поем мы славу.
Ехидный вопрос Лиззи, осведомившейся, в чем отличие самурая от смертников в Чечне, Палестине и Ираке, не поставил Бондаря в тупик. Раздавив окурок в керамической пепельнице, он пояснил:
– Истинное благородство, как сказано в бусидо, заключается в способности совмещать долг с понятием справедливости. Самураи не воевали с женщинами и детьми. Не захватывали заложников. Не взрывали школы. «Умри, если понадобится, убей, когда этого требует совесть». Ты можешь назвать хотя бы одного современного террориста, который руководствуется не ненавистью или алчностью, а совестью?
– Нет, – согласилась Лиззи. – Знаешь, Женя, я думать, ты мог бы стать айдл… идеальный самурай.
– Ты меня совсем не знаешь, – улыбнулся Бондарь.
– Как женьщин не знать мьюжчин, с которым спать? Это такой чувство… a feeling deep inside… Чувство здесь, глубоко. – Лиззи положила ладонь на середину груди. – Я знать.
– У тебя катастрофически портится произношение, когда ты пытаешься рассуждать на серьезные темы.
– Да, это так, – признала американка. – Но некогда рассуждать. Когда любить. I love you so, Jenia. А ты?
– О, чахохбили несут, – встрепенулся Бондарь, радуясь возможности сменить тему.
Усатый официант, расценивший устремленный на него взгляд как призыв поторопиться, устроил настоящий слалом между столами, чудом удерживая поднятый над головой поднос.
Лиззи посмотрела на него, потом на Бондаря и опустила глаза. Ей вдруг захотелось заплакать, но, не понимая причины, она отнесла это на счет депрессии, вызванной переутомлением и похмельем. Американке было невдомек, что иногда для слез не требуется каких-то особых причин. Чтобы понять это, нужно было родиться на противоположном полушарии.
53Чахохбили представляло собой нечто вроде рагу из баранины с овощами. Мясо было отменное – сочное, молодое, с жирком. Нарезанное мелкими кусочками, оно само проскальзывало в пищевод, требующий все новых и новых порций.
А вот овощная нагрузка Бондарю решительно не понравилась. С недожаренной, мыльной на вкус картошкой он кое-как справился, но остальное месиво оставил в тарелке. Оно состояло из очищенных от кожицы помидоров, красного перца и зелени, вызывавших у Бондаря все что угодно, кроме аппетита.
– Самурай пльохо кушает, – пожурила его Лиззи, безостановочно работая челюстями. – Это тоже кодекс бу-си-до?
– Самураев не кормили тушеными овощами, – проворчал Бондарь. – Иначе они сделали бы себе харакири. Групповое. Все поголовно.
– Ты не любьишь vegetables?
– А за что мне их любить? Пусть их кушают те, кто изобретает такие рецепты. – Бондарь демонстративно отложил вилку.
Лиззи высказалась в том смысле, что необходимо наслаждаться национальной кухней каждой страны, куда занесла судьба. В принципе возразить на это было нечего, но из духа противоречия Бондарь заявил, что ему безразлично, чем набивать желудок. Ну и глупо, сказала Лиззи. Что может быть интереснее, чем всевозможные экзотические яства? Тут она, кстати, припомнила известную пословицу и поинтересовалась, правда ли, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок?
– Если это так, – заключила она, – то я могу научьиться готовьить все, что тебье нравится, Женя.