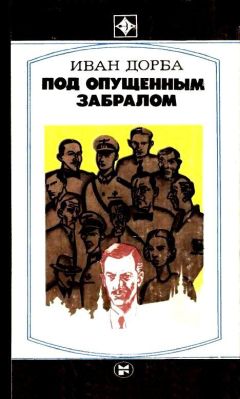Иван Дорба - Свой среди чужих. В омуте истины
— Честно говоря, идеология НТС противоположна фашизму, о чем свидетельствует то, что ряд партизанских отрядов НТС вели борьбу с немцами. А я пришел «непрошеным», после того как помог вашему сотруднику Павлу Ивановичу Богрову в Париже, и впоследствии честно воевал — как умел и мог.
— Вы помогали Франции, Сопротивлению и непосредственно «Интералие», которое в результате оказалось в руках немецкого абвера, — не забывайте этого. Вы воевали, были контужены, ранены, это все, разумеется, похвально, но вы нередко высказывали враждебные нашему Союзу мысли, это тоже следует помнить.
Еще когда меня ввели в этот роскошный кабинет, я сразу понял, что на весах моя судьба, и решил твердо отстоять свою жизнь. Особых секретов выдать я не мог, оставалось заинтересовать по-другому.
— Я люблю нашу великую страну всей душой и понимаю, что возврат к капитализму, реставрация ее погубит. Живя на Западе, я все больше убеждался, что их государственный строй ведет человечество к гибели. Анархия в производстве, в добыче ископаемых; безответственное отношение к вредным отходам, загрязнение рек, воздуха и морей; безжалостная вырубка лесов—наших легких. Поэтому спасти мир от неминуемо надвигающейся катастрофы может только плановое хозяйство, строгое, пусть даже беспощадное. И я горжусь тем, что первыми к этому выводу пришли в нашем государстве партия большевиков и ее вожди...
— Вождь! — поправил меня Литкенс. — Эту теорию, увы, покуда мы еще не можем воплотить в жизнь, поскольку буржуазный мир нам мешает.
— Своей борьбой против фашистов я это доказал и на практике, начиная с того, что привел двух пленных немцев, из которых один был офицером, адъютантом командира полка.
— Если уточнить, то не вы, а отряд, который шел с вами.
— Но этот отряд создал, подготовил и привел я.
—Ваша «подготовка» была довольно любопытной. Геноссе Манке утверждает, что вы довольно резко критиковали советскую власть и некоторых ее вождей. Поэтому, если хотите доказать свою лояльность к советской власти, подумайте, как это сделать.
— Я постараюсь выполнить все ваши предложения.
— Хорошо, сейчас напишите, ничего не тая, о вашей деятельности в НТС. И постарайтесь дать точную характеристику его вожаков.
— Байдалакова, Георгиевского и Вергуна?
— Нет, Байдалакова, Поремского, Околовича, Столыпина... Чистосердечное признание уменьшит вашу вину.
Сдерживаясь, как бы он не заметил кипящего во мне бешенства, я поглядел на Лубянскую (имени Дзержинского) площадь, процедил:
— Хорошо!
На другой день библиотекарь принес мне книжки, дали дополнительный паек и через день водили в спецбокс, где стояли два удобных ступа, стол, на нем чернильница, перо, несколько листов бумаги и коробка спичек. Часа через два приходила миловидная женщина в форме старшего лейтенанта — видимо, секретарь Литкенса, садилась напротив, прочитывала написанное и делала уточнения, предлагая их тут же вносить. Вскоре я заметил, что эти уточнения лили воду на мою мельницу. К примеру, когда я описал свою встречу с начальником русского отдела полиции Белграда Губаревым и он предложил поехать или послать кого-нибудь из членов НТСНП в Сплит, с тем чтобы давать сведения о проплывающих советских кораблях, направляющихся в Испанию, она спросила:
— Предложил или приказал? Он-то не очень с вами считался. Нам известно, что впоследствии он стал одним из помощников Скорцени.
И я тут же поставил слово «предложил» в кавычки.
Она же сообщила мне о том, что генеральный секретарь НТСНП Михаил Александрович Георгиевский сидит в камере неподалеку от меня. Что он объявил голодовку, и его искусственно кормят.
Прошло два месяца. Я закончил свою писанину. И меня перевели на другой этаж в общую камеру. В основном это были, за некоторым исключением, малоинтересные люди: партизаны, власовцы, бандеровцы. Помню мальчика лет четырнадцати, ко мне прилепившегося, кто знает почему. Помню молодого еврея Александра Сергеевича (?!), читавшего наизусть всего «Евгения Онегина»...
Прошло месяца три... Я кое-чему научился, как, например, общаться с соседями с помощью перестука, как и где дать, кому надо, о себе знать. Понял, что тюрьма — это маленький мир, живущий по своим законам, полный взаимного недоверия, мир опытных, поднаторелых стукачей, политических противников существующего строя и ни в чем не повинных «болтунов» или родичей так называемых врагов народа.
3
Весна в полном разгаре. Светит солнце. 20 минут оно ласкает на прогулке своими теплыми лучами и словно вливает в тебя жизнь, и так не хочется возвращаться в камеру с ее специфическим запахом. Я где-то читал, что туристы, выходя из зала пыток великого мастера Торквемады, чувствуют себя подавленными, даже угнетенными. Как будут чувствовать себя далекие потомки, посещая Лубянку? Кто знает? А надежда не умирает, веришь, что наряду со злом есть и добро.
И вот снова роскошный кабинет, но повыше. В мягком кресле восседает сравнительно молодой генерал, по бокам два полковника. ОСО. Суд?! Примерно те же вопросы, те же выводы. И я осужден по статье 58, пункт А и Б — как изменник Родины, пункт 6 или 8 — как шпион, и пункт 10, как злостный клеветник на советскую власть.
Защищаться, понял я, бесполезно, и все-таки сказал несколько слов. Они со скукой меня выслушали, думая, наверно, о чем-то другом. И заявив: «О приговоре вам сообщат!!» — вызвали караульного.
Я шел и думал, что этих безразличных роботов можно пробудить только тем, чтобы они выполняли и обязанности палачей.
Дня через три меня перевели в Бутырскую тюрьму, в одиночку Пугачевской башни, куда обычно сажают смертников. А спустя недели две или три предложили подписать приговор и просьбу о помиловании.
Режим в Бутырках менее педантичный, и камеры побольше, и библиотека богаче. Она создавалась давно, еще с царских времен, когда революционеры могли покупать книги разных политических взглядов и направлений, не говоря о художественной литературе. Все это оседало после их отбытия в анналах библиотеки, никем не проверенное.
Пришла и маленькая радость. По утрам на козырек моего окна усаживалась ласточка и, глядя на меня, как мне казалось, о чем-то щебетала... Взлетала и садилась снова, словно приглашала: «Полетим!» С тех пор я с нежностью отношусь к пичужкам.
Человек рожден, чтобы жить. Жизнь — смена впечатлений, переживаний, действий. Что остается ему, когда, попав в одиночку, среди мертвых стен он видит сквозь зарешеченное окно с козырьком маленький квадрат неба? Хорошо, если ему посчастливится, как мне, с такой редкой в большом городе ласточкой или мышонком... Мудрая природа компенсирует по ночам: красочные, необыкновенные сны! В каких садах, лесах, горах я ни побывал! Каких дворцов, замков, теремов ни перевидал! С какими красавицами ни общался!..
В ту ночь мне приснился храм Христа Спасителя. Будто я лицеист, но почему-то взрослый, иду в паре с Катковым Иваном, таким, каким я видел его в Париже, и говорю ему: «А говорили, будто его Каганович разрушил!» А он отвечает: «Стоит и будет вовеки стоять!» — хлопает, по привычке, меня по плечу.
Из глубокого сна я просыпаюсь и чувствую, что меня хлопают по плечу. Открываю глаза — караульный.
— Вставай! Одевайся! Выходи!
«Неужто в последний путь? Недаром собор снился!» — подумал я, шагая по коридору. Такие же мысли блуждали в моем приглушенном сознании, когда усадили в «воронок», когда, выходя из него, узнал знакомый вход во «внутреннюю»... Повели в бокс на первом этаже. Спустя несколько минут явился парикмахер и, к удивлению, не постриг наголо, а подстриг и побрил безопасной бритвой. А у меня тем временем наступила реакция, я понял, что «до смерти НЕ четыре шага!»
Через час я входил в кабинет Литкенса, который встретил меня со своей неизменной улыбкой-усмешкой, заметив:
— Садитесь! Что это вы так поседели? Не надо так переживать. Вас присудили к пятнадцати годам концлагеря. Но если честно нам поможете, освободим гораздо раньше.
Я понял, что это ультиматум, и тут же согласился.
— Хорошо! Сейчас выпейте стакан крепкого чая, поешьте и подумайте, что вы можете предложить... интересное?.. Обсудим и пойдем наверх! — Литкенс ткнул большим пальцем в потолок.