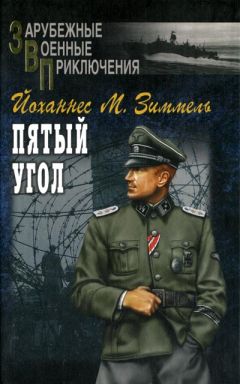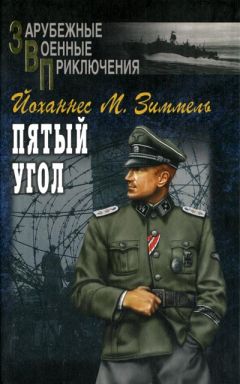Александр Авдеенко - Горная весна
— Неужели еще не забыли первые дни службы на заставе?
— Разве забудешь! Прямо живой стоит передо мною стриженный наголо солдат Смолярчук. — Он густо покраснел, блестящими глазами посмотрел на Шапошникова и опустил голову. — Спасибо, товарищ капитан, за трехлетнюю науку! Век ее не забуду!
— Боевую дружбу грешно забывать'. — Шапошников поднялся, положил обе ладони на раздольные плечи Смолярчука. — Я тоже не забуду, какого солдата граница отправляет домой. — Молча, пристально посмотрел ему в глаза и опять тихо и грустно спросил: — Значит, уезжаете, старшина? А может, останетесь, а? Может быть, еще повоюем локоть к локтю, а?
— Нет, товарищ капитан, неделю назад, наверно, остался бы, а теперь…
— Что же изменилось? Случилось что-нибудь?
— Ничего особенного. Так, пустяки.
— И эти пустяки решили вашу пограничную судьбу? Эти пустяки потушили огонь в ваших глазах? В чем дело, старшина?
Смолярчук долго молчал.
— Есть, товарищ капитан, у меня один важный непорядок, — наконец сказал он, — но не по служебной части, не беспокойтесь. Личный.
— Ну, если это секрет… — развел руками Шапошников. Он был задет за живое скрытностью своего воспитанника, перед которым его сердце всегда было открытым. — Если не доверяете…
— Что вы, товарищ капитан! Кому же мне и доверить, как не вам! — Он помолчал, разглядывая натруженную ременным поводком ладонь. — С Аленой у меня нескладно получилось.
— А… поссорился! Это бывает, не унывайте.
— Хуже. Разошлись мы, как ночь и день.
— Вот это новость! Не ожидал. А какая причина? Почему, собственно, разошлись?
— Не по Сеньке, видно, шапка: она гидролог, метеоролог, ученая барышня, а я…
— Вы пограничник, не прибедняйтесь! — вспылил Шапошников. — Зря это вы так… голову прячете от сердечной неудачи. Вы что же, отрицаете право Алены любить человека по своему выбору? Обижаетесь, что не могла вас полюбить? Насильно мил не будешь. И потом, вы… может быть, именно вы и виноваты, что она не ответила на ваше чувство. Вы думали об этом?
Как ни тяжко было на душе Смолярчука, он все-таки мужественно выдержал долгий, суровый взгляд Шапошникова.
— Разрешите, товарищ капитан, отправиться… — сказал он, и уголки его губ дернулись в болезненной улыбке. — Думу тяжкую думать…
— Идите!
Глава одиннадцатая
Отгремела горная гроза, иссяк шумный и обильный майский дождь. Большое мутнокрасное солнце, перечеркнутое черным зигзагом летучей тучки, клонилось к закату. Длинная тень лесистой горы лежала на дворе заставы. В деревьях, падая с ветки на ветку, с листа на лист, шуршали, переговариваясь о чем-то своем, дождевые капли.
В глубине двора заставы над продолговатым кирпичным строением, крытым оранжевой черепицей, курился светлый, веселый дымок. Он поднимался к небу и там медленно таял. Только человек, никогда не смывавший с себя солдатского пота, никогда не изведавший копченой горечи березового веника, мог бы спутать этот сладкий банный дымок с повседневным кухонным.
В жизни людей пятой заставы баня занимала не последнее место.
Солдат, стоявший на наблюдательной вышке, глядя вниз, заулыбался, потянул носом, нетерпеливо переступил с ноги на ногу и произнес почти нараспев:
— Ба-а-а-ня!
Другой солдат, несущий службу на вершине горы Соняшна, повернулся лицом к заставе, крякнул, прищурился, подумал: «Ну и попарюсь же я сегодня, ну и помоюсь…»
Два майора из штаба отряда, проезжая вдоль Тиссы на открытом вездеходе, увидели банный дым на пятой заставе.
— Стой! — в один голос, не сговариваясь, приказали они шоферу.
Посмотрели друг на друга и, смеясь, сказали:
— Завернем?
Дождь ли, снег ли на улице, мороз или солнце, — в час, назначенный начальником заставы, оживал, наполняясь теплом, этот дом под оранжевой черепицей, холодный, темный, необитаемый во все другие дни.
Какое это блаженство — войти в рубленый предбанник, полный головокружительного тепла и аромата распаренных березовых листьев и веток! До чего же хорошо после бессонной ночи, проведенной в горах, под проливным дождем, на берегу реки, в болотных камышах, в лесной глуши, сбросить с себя потное белье! Дышишь так, словно твои легкие увеличились в объеме по крайней мере в три раза.
Густой сладковатый пар наполняет баню. Покатая шершавая цементная плита пола приятно щекочет подошвы ног своим влажным теплом. Буковые бревна, белые, словно костяные, в продольных косых трещинах, проконопаченные мохом, нагрелись так, что к ним нельзя притронуться. Крутые своды запотели, они роняют холодную, освежающую капель. Зеленые березовые листья на спинах моющихся, на цементе, на бревнах…
Смолярчук с удивлением вглядывается в людей, преображенных мыльной пеной, горячей водой и молочными сумерками. Снежной бабой кажется кряжистый, с крутыми плечами и большой головой сержант Абросимов. Вон румяный Тюльпанов. Вот смуглокожий, с густо намыленной головой Умар Бакулатов. Рядом с ним смешливый Волошенко.
— Держись, кто в черта не верует! — закричал Волошенко, выливая из таза горячую воду на раскаленный булыжник калильной печи.
Густое обжигающее облако пара хлынуло к потолку, быстро распространилось по тесной парилке.
Волошенко грозно вознес над головой пушистый, с молодыми березовыми листочками веник:
— Ложитесь, товарищ старшина, и не просите пощады!
Молча, лишь покряхтывая, влез Смолярчук на полок, покорно распластался на дубовых плахах.
Волошенко обмакнул веник в горячую воду, широко размахнулся и нанес старшине пробный удар. Белая спина Смолярчука стала розовой. После нескольких ударов она покраснела, потом налилась жаром. Волошенко неутомимо поднимал и опускал веник, приговаривая при каждом ударе:
— Это вам, товарищ старшина, за то, что вы такой красивый, за то, что такой высокий и басистый… за то, что бросаете своих друзей и демобилизуетесь…
Волошенко остановился, перевел дыхание, смахнул со лба пот.
— Еще или довольно? — насмешливо спросил он.
— Давай! Хлещи! — сквозь зубы простонал Смолярчук…
И снова Волошенко упруго и хлестко молотил душистым веником раскаленную спину Смолярчука.
— Довольно! — Смолярчук схватил Волошенко за руку. — Ну и ручища у тебя, Тарас!..
Волошенко бросил веник.
— Зря жалуетесь, товарищ старшина. Получили, как полагается демобилизованному, последний банный паек. — Повар вздохнул, поднял таз с холодной водой, словно собираясь его выпить, заговорил: — Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!
Мало выпадает праздничного времени на долю солдат-пограничников, живущих днем и ночью, всю неделю, весь месяц, весь год, весь срок службы напряженной, трудной, до предела уплотненной жизнью. И потому они высоко ценят каждый свободный час, умеют делать его праздничным.
Тарас Волошенко не был старожилом заставы, но эту особенность пограничной жизни он почувствовал сразу, чуть ли не с первого дня.
Побывав на банных небесах, Смолярчук опустился на землю. Окатив чистой холодной водой цементный пол, он растянулся на прохладной площадке: отдыхал, набирал силы для второго захода на полок.
Смолярчук привык за годы службы мыться в нескольких водах, париться долго, до полного изнеможения. Не собирался он изменять своим привычкам и сегодня. Наоборот, прощаясь с баней, которую строил своими руками, он решил пробыть здесь долго, как никогда раньше.
Солдат Тюльпанов даже здесь, в бане, ни на шаг не отставал от Смолярчука. Приняв на полке в парильной ту же «пытку», что и его учитель, он лежал теперь рядом со старшиной, прохлаждался.
— Значит, последняя баня, — вздохнув, проговорил он.
Смолярчук молчал. Глаза его были закрыты, руки и ноги разбросаны, дышал он тяжело, с хрипотцой. Притихли и другие пограничники, ожидая, что ответит старшина.
Молчание Смолярчука не смутило Тюльпанова. Он продолжал с присущим ему простодушием:
— Не понимаю я вас, товарищ старшина, как это вы, такой знаменитый пограничник, согласились на демобилизацию. На границе вы первый человек, а что вы будете делать там, в Сибири?
Смолярчук молчал. Взяв жесткую мочалку, он неистово начал тереть намыленную голову.
Как мог Волошенко не воспользоваться таким благоприятным случаем, не вступиться за правду, не раскрыть суть многозначительного молчания Смолярчука!
Серьезно и внушительно глядя на стриженого солдата Тюльпанова, повар сказал:
— Такие люди, как старшина Смолярчук, становятся первыми человеками везде, куда пускают свои корни: в шахте, в эмтеэс, в театре. Понятно?
Все, кто был в бане, засмеялись. Смолярчук, против всеобщего ожидания, тоже засмеялся.
Широко распахнулась дверь, и в светлом проеме предбанника выросла подтянутая, как всегда, фигура начальника заставы.