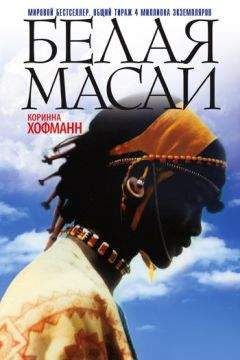Брайан Аберкромби - Хофманн
Базель, 4 часа утра понедельника 28 февраля 1977 года. Традиционное шуточное шествие, которым базельцы открывали свой ежегодный карнавал, как всегда, привлекло сюда тысячи швейцарских и зарубежных туристов. В 4 часа утра электрический свет в городе разом выключался, и только свечи и электрические фонарики освещали карнавальное шествие и лица толпящихся вокруг людей. Толпы зрителей постоянно перетекали с места не место, пристраивались к отдельным «цеховым» процессиям, которые с трудом протискивались сквозь гомонящее, смеющееся людское море. Жизнь города вышла из обычной колеи. Под треск барабанов и пронзительные звуки флейт, рожков и труб люди, свечи, фонарики смешивались в одну движущуюся массу без ног и головы.
Толпа подхватила Добрунека. Бесцельно брел он, подхваченный людским потоком. И мечтал только об одном — скорее бы наступил день, и тогда он сможет освободиться от груза. Замысел был несложен: человек с большим фотокофром в такой день меньше всего бросится в глаза и вполне спокойно сможет передать его содержимое, согласно договоренности, в условленном месте. Фотовспышки, сверкающие здесь и там и освещающие красочное зрелище, подтверждали — человек с фотокофром на ремне смотрелся абсолютно естественно. Вот только Добрунек ощущал себя, как угодно, только не естественно. Он не знал, что в кофре и не хотел знать. Он был всего лишь мелким служащим в югославском консульстве. Обычная канцелярская работа — сортировать прочитанную корреспонденцию, отвечать на несложные запросы соотечественников, но никак не выполнять обязанности курьера — да еще при таких странных и, как ему казалось, сомнительных обстоятельствах. Ему даже выдали, в целях безопасности, оружие. Это и вызвало у него тревогу, так как он знал, что курьеры никогда не носят оружия. Почему вдруг ему выдали? От задания он тоже не мог отказаться — хотя сделал бы это с большим удовольствием, — приказ, в конце концов, есть приказ. Но таскаться с пистолетом ему не очень хотелось. Он видел в этом прямой вызов судьбе и, в нарушение приказа, спрятал пистолет в ящике своего письменного стола. Мятое полупальто, совсем не спасавшее от холода, и бесформенная фетровая шляпа должны были, по мнению руководства, придать ему вид беззаботного туриста. Но фотокофр без аппарата в руках привлек бы к себе внимание. И посему ему всучили довольно дорогой фотоаппарат, что, по замыслу, окончательно формировало образ заядлого фотолюбителя. Добрунек никогда в жизни не держал в руках фотоаппарат, да и потребности такой никогда не испытывал. Он считал, что фотографировать самому — глупо. Фотографии знакомых были для него лишь неудачным их отражением. Фотографии незнакомых людей ему ничего не говорили. Пейзажи, которыми ему доводилось любоваться, не могли воспроизвести никакие фотографии, а фотографии мест, где он еще не бывал, вызвали лишь невыполнимое желание путешествовать. Да к тому же щелканье фотоаппаратом — слишком для него дорогое удовольствие. А вот настоящее, ничем не заменимое удовольствие доставлял ему его маленький садик, требовавший ухода, внимания и денег. А так как мама болела, то он испытывал сейчас определенные денежные затруднения. Скорее всего, это было известно и использовано, чтобы сделать его более послушным — пообещали большую премию в случае успеха. Поэтому, помимо выполнения приказа, он должен был сыграть роль и хорошо сыграть, как учили. Если это задание было таким важным, то почему его поручили именно ему? Ему ни разу не доводилось выступать в роли курьера. Кроме того, он считал, что он вообще не похож на туриста. Но, может быть, в такой сутолоке это действительно не бросалось в глаза?
Карнавальные костюмы для окружающих его людей были великолепным, красочным спектаклем, но у него не вызывали никаких эмоций. А мерцающие свечи навевали мрачные мысли. Он пытался их отогнать и думать о своем садике и о маме, которая, может быть, скоро выздоровеет.
Медленно начало светать. Пора было идти к месту встречи. Толпа начала редеть. Открылись первые кабачки, и из их распахнутых дверей на Добрунека веяло теплом и манящим запахом лука и сыра, смешанного с запахами горячего кофе и сигаретного дымка. Он проголодался. Если бы он отделался от своего кофра, то зашел бы в один из кабачков и с удовольствием съел бы луковую поджарку с бокалом вина, а потом заказал бы чашечку кофе. Эта заманчивая картина грядущего удовольствия окрылила его. Он торопливо поднялся по ступенькам улочки Келлергесхен. Навстречу попадались шумные компании людей с барабанами и духовыми инструментами. До полудня барабаня и дуя в трубы, они будут шататься по городу, пока во второй половине дня вновь не начнется костюмированное шествие. Он прошел мимо церкви Святого Петра, пересек ров и площадь с таким же названием и направился к университетской библиотеке. Здесь почти не было ни прохожих, ни гуляющих. И здесь Добрунека нагнала группа шутовски наряженных в костюмы в заплатах, в черно-белых масках.
Удар в спину был таким неожиданным, что он сразу упал. Пуля, пробив на входе позвоночник, при выходе разворотила грудную клетку. Он с трудом перевалился на бок. Шутовская группа, продолжая топать в такт и дуть в флейты, обтекала его.
Никто из случайных прохожих не обратил внимания на то, что происходит в центре группы. К Добрунеку наклонился человек с пистолетом с глушителем на стволе. Он забрал у умирающего кофр и прицелился Добрунеку в голову. За ту долю секунды, что Добрунеку осталось жить, он вдруг узнал его; несмотря на маску, прикрывающую лицо мужчины, он узнал его по стеклянному глазу, смотревшему из-под маски — как и четыре дня назад, во время того странного, немотивированного визита. Объектив фотоаппарата был направлен на убийцу, и Добрунек этим воспользовался. Выстрел раздался одновременно со щелчком фотоаппарата. И на этот раз никто и ничего не услышал и не заметил. Шутовская группа, замешкавшись на мгновение, снова бодро устремилась вперед, продолжая бить в барабан и дуть в трубы.
Добрунек, не сделавший в жизни ни одной фотографии, да и не смысливший в этом ничего, сделал перед смертью сенсационную фотографию: он снял собственного убийцу.
Но это ничего в корне не изменило: третья фаза операции провалилась.
МОСКВА, ИЮНЬ 1984‑ГО
«Лето в этом году позднее», — подумал Сергей Тальков, мчась в черном правительственном «ЗИЛе» по разделительной полосе от площади Дзержинского к Кремлю.
Его беседа с председателем Комитета государственной безопасности, как всегда, была неприятной. В просторном кабинете, больше напоминавшем зал, резиденции КГБ на Лубянке (так москвичи нежно называют желтое здание с неоготическим фасадом на площади Дзержинского) не было произнесено ни одного резкого слова. Но Тальков понял, что дни его сочтены. Владимир Сементов дал ему ясно понять, что его, Талькова, услуги в ближайшее время, видимо, будут больше не нужны. Это был нехороший знак, так как по должности Талькову изначально подчинялся и председатель КГБ — это была должность, о которой вряд ли кто-нибудь знал в Советском Союзе, не говоря уж о загранице. Но маленький, шестидесятилетний Сементов являл собой новую возросшую власть КГБ. В 1982 году, после смерти Великого Генерального секретаря партии, Генсеком стал бывший председатель КГБ. Но вскоре умер и он, и Сементов помог очередному ветерану подняться наверх и занять пост Генерального. Но и новый глава партии и государства был болен, и будущее представлялось неясным — за исключением одного: КГБ опять укреплял свою власть и подпиливал многие стулья, в том числе и стул, на котором сидел Тальков. Еще три года назад такое было немыслимо. Новая ситуация вынуждала Талькова действовать.
Правительственный «ЗИЛ» влетел в Кремль через Боровицкие ворота, промчался мимо здания Совета Министров и остановился у замкнутого с четырех сторон комплекса здания, в котором заседало Политбюро. Тальков поднялся на третий этаж, где проходили заседания и находилось его бюро. Оно располагалось в просторном помещении без украшений. Тальков, как в свое время и Ленин, с пренебрежением относился к личной роскоши. У него в рабочей комнате тоже стояла железная кровать, чтобы в случае необходимости можно было остаться на ночь. Окна выходили в узкий внутренний двор. Книжные полки и шкафы для бумаг занимали почти все стены. Ведомство Талькова, у которого даже не было названия, было в свое время создано Сталиным для контроля за деятельностью КГБ, верного стража государства и режима. Это был орган наблюдения и контроля, чья власть и влияние зависели только от Генерального секретаря партии. Он имел доступ ко всему, но не являлся ни исполнительной властью, ни исполнительным органом, не имел персонала. Его задачей всегда было информировать лично Генерального секретаря и докладывать о деятельности КГБ, но тайной, направленной, возможно, против партийной верхушки. После смерти Сталина, казалось, что это тайное ведомство будет распущено. Оно существовало нелегально. Но после отстранения Хрущева Тальков был назначен на должность начальника этого отдела лично новым Генеральным секретарем, с которым его связывала тесная личная дружба. Новый Генеральный ценил его острый ум и умение ясно оценивать ситуации, что Тальков, юрист к тому же, имел возможность неоднократно демонстрировать. Восемнадцать лет Тальков имел огромные власть и влияние. Когда он не имел возможности сделать что-то сам, ему достаточно было получить отовсюду информацию, а уж ухо Генерального всегда было в его распоряжении. За это его с тех пор ненавидели в КГБ. Но вот его информированность стала иссякать, и его должность, его стул оказались под угрозой.