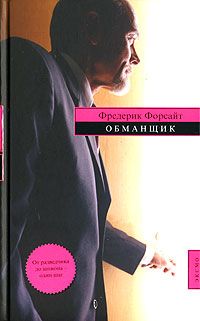Леонид Юзефович - Поздний звонок
Рогов отстегнул поводок, теперь Зюзя бежала в стороне. Время от времени она замирала и нюхала землю. Трусы с нее сняли еще дома.
Он полез в пиджак за сигаретами и без особого удивления нащупал в кармане рюмку. Каждый день, одеваясь, а иногда уже потом, на улице или в институте, он обнаруживал в одном из карманов то пластмассового солдатика, то пупсика, то ложечку со следами утреннего яйца всмятку или еще что-нибудь такое же маленькое, уютное, домашнее. Сын украдкой засовывал ему эти вещички, чтобы в той жизни, куда уходит отец, напомнить о себе. Приятно было поглаживать пальцами тонкое рюмочное стекло. Курить расхотелось.
Шли к автобусной остановке. Страшноватая ночная жизнь клубилась у подъездов и в беседке за проволочной вольерой детского садика. Оттуда слышалась чья-то солидная ругань, и сопровождавший ее возбужденный женский смех звучал как обещание награды всем тем, кто сегодня выйдет из тьмы, чтобы взять свое. Бесшумная тень скользнула вдоль стены, двое восточных людей пронесли что-то длинное, завернутое в простыню, похожее на труп. Рогов уже пожалел, что вызвался проводить гостей до остановки. Одинокий обратный путь казался пугающе долгим, а в последнее время он старался не возвращаться поздно домой. Даже гулять с Зюзей выходил пораньше, до темноты. Былая легкость жизни исчезла, зря Галькевич ему завидовал.
Навстречу попался человек с лицом убийцы. В кустах кошки кричали голосами его будущих жертв. Рогов подумал, что Москва становится похожа на тот город, о котором читали с сыном в сказке про Синдбада-морехода. При солнечном свете этим городом владели люди, но с наступлением темноты их власть кончалась, они толпами бежали к морю и проводили ночь в лодках, отчалив от берега, а на смену им с окрестных гор спускались орды обезьян, чтобы посиживать в кофейнях, торговать на базаре, гулять по улицам, убивая тех, кто остался в городе, затем с рассветом вновь уйти в горы и на следующий вечер опять вернуться.
Был сентябрь, с каждой неделей островок дневного света становился всё меньше, всё незаметнее в океане тьмы. Рогов бережно поглаживал в кармане свое стеклянное сокровище. Креста он не носил, но эта рюмка могла уберечь его от всех опасностей на пути от автобусной остановки до дома.
Двор тонул во мраке, шумели деревья. Скоро пожелтеет и облетит листва, тогда сквозь голые ветви издалека видно будет, как в третьем этаже светятся по вечерам два окна его однокомнатной квартиры.
Там жена Рогова уложила сына, но тот никак не засыпал: то пить, то писать, то спой песенку. Наконец она рассердилась и пошла мыть посуду. Сын заплакал. Она хотела выдержать характер, но, конечно, не выдержала, вернулась.
Он сказал:
– Мама, посиди со мной, мне страшно.
– Чего ты боишься? – спросила она.
Сын заученно сослался на привидения, на каких-то фольклорных персонажей, но чувствовалось, что дело не в них. Это были всего лишь условные знаки чего-то иного, невыразимого, не имеющего ни формы, ни имени. Левая занавеска неприятно шевелилась от сквозняка, будто за ней кто-то есть. Чтобы обездвижить ее, жена Рогова прикрыла форточку, включила настольную лампу, пообещала зажечь свет в коридоре и являться по первому зову, после чего сын, страдальчески вздохнув, согласился засыпать один. Ее поцелуй остался у него на лбу, как охранная печать.
По дороге из комнаты в кухню она машинально проверила, заперта ли входная дверь, так же машинально глянула в дверной глазок. Это вошло в привычку с тех пор, как на площадке повадился перед сном курить сосед, которому жена запрещала дымить дома. Приходилось его гонять, потому что по воздушной трубе весь дым затягивало в тщательно проветриваемую на ночь квартиру Роговых. Сейчас дымом не пахло, но на площадке кто-то был, глазок заслонен чем-то живым, темным, шевелящимся. Она подумала, что вернулся Рогов, хотела открыть, прежде чем он откроет своим ключом, как вдруг сообразила, что не слышит ни звяканья поводка, ни привычного повизгиванья Зюзи. За дверью стояла мертвая тишина.
Она прислонилась к стене, ожидая звонка.
Прошла минута, никто не позвонил.
Опять припала к глазку и почувствовала, как ноги стали ватными. Тот человек тоже вплотную привалился к двери с другой стороны, теперь она явственно слышала его дыхание, почти сопение, словно запыхался после бега или пьяный.
Что он здесь делает? Подстерегает Рогова?
Набравшись решимости, она хрипло спросила:
– Кто там?
Тишина.
Спросила еще раз и бросилась к телефону, лихорадочно соображая, кого позвать на помощь. Друзья находились вне пределов досягаемости, ближайший мог быть здесь не раньше, чем минут через сорок. Оставались соседи. На площадке было четыре квартиры, включая их собственную. В одной жила древняя старуха, не выходившая из дому, раз в неделю к ней приезжала дочь и привозила продукты. В другой квартире нет телефона, в третьей – есть, но она его не знала, как не знала фамилию жильцов, чтобы спросить по справочной. С остальными соседями по подъезду они с Роговым отношений не поддерживали. Можно позвонить в милицию, но что говорить? Соврать, что ломятся в дверь? Так пока еще приедут.
Она сняла трубку, но колебалась, левой рукой придерживая рычажок, который неожиданно звякнул и затрепетал под пальцами. Она судорожно отдернула руку, незнакомый мужской голос попросил Рогова.
– А кто его спрашивает?
Отвечено было что-то невразумительное.
Она сказала:
– Минуточку!
С аппаратом в руке, волоча по полу шнур, перешла из комнаты в прихожую и громко, с расчетом на того, стоящего за дверью, сказала:
– Муж вышел погулять с товарищами, они вот-вот вернутся, все трое, товарищи будут ночевать у нас, я одолжила у соседей раскладушку.
На том конце провода повесили трубку. Лишь тогда шевельнулось подозрение, что этот звонок и человек на площадке как-то связаны между собой. Голос в трубке был странно близкий, объемный, словно звонили из автомата за углом. Значит, их тут двое? Может быть, это всё из-за Пола Драйдена? Что, если у себя в Америке он тоже состоит на службе в учреждении, аналогичном тому, куда вызывали Рогова? Не так уж страшно по нынешним временам.
Немного успокоившись, она понесла телефон обратно в комнату. Сын уже спал. Он всегда засыпал и просыпался мгновенно. Оба мира, в которых все они обитали, сон и явь, игра и жизнь, прошлое и будущее, в ней самой давно разведенные, для него еще лежали совсем рядом. Ему не стоило ни малейших усилий шагнуть из одного в другой.
Когда ставила телефон на столик, послышалось, что тот, за дверью, ковыряется в замке. Сердце ухнуло, на ослабевших ногах она метнулась в прихожую. Нет, всё тихо. Приложила ухо к двери, снова приникла к глазку и вдруг поняла, что человек на площадке сделал то же самое. Два глаза, разделенные крошечным, выпуклым снаружи стеклышком, смотрели друг в друга, она различала даже помаргивание, слабое и напряженное подрагивание прижатого к стеклу века. Кто-то разглядывал ее в упор, а она, хотя и знала, что оттуда ничего нельзя увидеть внутри квартиры, почувствовала, как кровь стынет в жилах и мерзкий холодок проходит по корням волос. Разумные соображения сейчас не действовали. Не верилось, что оптика способна защитить от этого взгляда. Сам бессмысленный ужас жизни остановил на ней свой неподвижный звериный зрачок.
В домах гасли огни, лишь окна подъездов синими переборчатыми колодцами стояли в темноте.
Рогов, Галькевич и Пол Драйден свернули за угол. Галькевич вспомнил, как пару лет назад выпивали у Роговых, тоже была осень, но поздняя, дождик, слякоть, на мокром газоне сидела пьяная женщина в резиновых сапогах, в сбившемся платке, расхристанная, немолодая и некрасивая, и Марик сказал про нее: русская Венера. Явилось желание немедленно рассказать Рогову и Полу Драйдену про Марика, что Марик, сволочь, так сказал. Лишний раз напомнить им, что он, Галькевич, не такой, но, слава богу, сдержался. Если ты другой, не суетись, не доказывай, иначе получится, что такой же. Никому ничего нельзя доказать, если боишься, а он знал, что в нем живет страх перед этой прекрасной, печальной и жутковатой страной, которая была его родиной.
Свернули за угол, и Пол Драйден внезапно понял, почему в течение всего вечера было чувство, будто фигура царевича Алексея утрачивает ясность очертаний – она не просто расплывалась, а словно растягивалась между Роговым и Галькевичем, принимая образ то одного, то другого, но в любом случае теряла привычное сходство с ним самим, Полом Драйденом. Сам он мальчиком тоже боялся и ненавидел отца – вечно пьяного, громогласного, с огромным плоским телом бывшего баскетболиста, и со студенческих лет сочувствовал Карлу XII, который пошел войной на пучеглазого царя, чтобы отомстить за его, Пола, детский страх, отроческие унижения.
– Пожалуйста, – попросил он, – подождите меня.
Отошел к кустам, расстегнул молнию на джинсах.
Рогов и Галькевич остановились. Под струей зашелестела иссохшая трава, Пол Драйден виноватым голосом сказал Рогову: