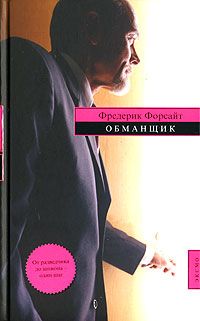Леонид Юзефович - Поздний звонок
Галькевич сказал:
– Вестернизация, читай колонизация.
Рогов, как всегда, с ним заспорил и кстати вспомнил исторический анекдот, опровергающий как раз ту самую идею, которую он этим анекдотом собирался проиллюстрировать.
– Однажды, – рассказывал Рогов, – Карл с войском преследовал врага не то в Польше, не то на Украине или в Лифляндии, не важно, и у шведов кончились запасы продовольствия, пришлось прекратить погоню. Тогда у всех на виду король пал с коня на землю, в бешенстве стал рвать траву, клоками заталкивать ее себе в рот и жевать. Генералы тоже спешились, подбегают к нему. Ну, скажем, те, про которых у Пушкина. Как там? «Уходит Розен сквозь теснины, сдается пылкий Шлиппенбах…» Этот Розен, значит, с пылким Шлиппенбахом подбежали, спрашивают: «Что с вами, ваше величество?» А он только мычит. Наконец отплевался и заплакал. «О, – говорит, – если бы я мог научить моих солдат питаться травой! Я был бы властелином мира!»
Галькевич злорадно засмеялся.
– Вот видишь? Викинг, берсеркер, какая уж там вестернизация! Чему он мог нас научить с такими-то идеями?
Рогов сообразил, что рассказал что-то не то. Он взял с тарелки пучок салата, сунул в рот, начал давиться, раздувать щеки, изображая бешеного короля, и жена, вошедшая в комнату вслед за сыном, подумала с ненавистью: шут, шут, шут!
– Твой сын, – сообщила она, – хочет тебя кое о чем спросить.
Сын уже чувствовал, что нечаянно угодил в какую-то важную точку. Он выступил вперед и звонким голосом объявил свои сомнения относительно косточек из компота. Рогов нежно притянул его к себе, стал объяснять, что дети собирают эти косточки в большую коробку, а весной сажают их в землю. Когда сын вырастет, зашумит во дворе фруктовый сад – абрикосы, персики, вишни, черешни.
– Перестань паясничать! – сказала ему жена.
Галькевич ухмыльнулся.
– Чему ты, собственно, удивляешься? Это вполне в духе твоего мужа, ведь он же оправдывает тех, кто хотел, поливая землю кровью, вырастить райский сад из косточек от компота.
Она сказала Галькевичу:
– Прекрати!
Пол Драйден молчал, он пытался вытащить забившуюся под диван собаку Зюзю. У нее была течка, теща Рогова натянула на нее старые трусики внука, чтобы не испачкала ковер. Зюзе казалось, видимо, что в трусах она выглядит совершенно непристойно. Пол Драйден тянул ее к себе за передние лапы, она упиралась и скулила.
– Оставьте ее в покое, – попросила жена Рогова.
Она принесла салат, еще что-то. Сели за стол, где уже стояла купленная Полом Драйденом за валюту бутылка водки. Рогов разливал, Галькевич произносил тосты – за гостя, за хозяйку, за науку. Дело пошло. Рогов вспомнил другого американского слависта из другого университета, не входившего в Плющевую Лигу. Они познакомились на международной конференции лет пять назад, и хотя говорили главным образом о Челобитенным приказе при Иване Грозном, его, Рогова, потом приглашали на беседу в известное учреждение.
Пол Драйден сказал, что правильно сделали, – этот их коллега, он с ним знаком, в Москве меньше всего интересовался Челобитенным приказом, поскольку является агентом учреждения, аналогичного тому, куда приглашали Рогова. Недавно, например, издал сборник анекдотов о Советской армии.
Рогов, заранее улыбаясь, спросил:
– А есть там такой анекдот?
Рассказать не удалось. Пол Драйден сказал, что подобными вещами не занимается, он всё лето просидел в венском архиве, изучал документы о побеге царевича Алексея в Вену в 1716 году и пришел к выводу, что царевич был вовсе не консерватором, тем более не православным фундаменталистом, как почему-то принято считать, а либералом и тайным католиком. Необходимость перемен он понимал не хуже Петра, просто в своих реформаторских замыслах думал опереться не только на западную технику, как его отец, но на сам дух Запада. К несчастью, здесь, в России, этого видеть не желают. На прошлой неделе он, Пол Драйден, выступал в институте с докладом, и один профессор, написавший о петровской эпохе три монографии, заявил: «Пил ваш царевич, извините, как сапожник». Пол ответил ему: «Вы, уважаемый коллега, может быть, не знаете, но Черчилль во время войны каждый день выпивал по бутылке коньяка, и англичане не жаловались, что ими плохо управляют».
Водка в бутылке кончилась. Галькевич вышел в коридор, пошарил в сумке и вернулся с чекушкой.
– Убери немедленно! – велела жена Рогова.
Галькевич напомнил ей, что в войну Черчилль ежедневно выпивал по бутылке коньяка, а сейчас мир. Пол Драйден молча взял чекушку и разлил на троих. Жена Рогова обреченно пошла на кухню жарить картошку. Рогов сказал ей вслед:
– Уходит Розен сквозь теснины.
Начало темнеть. Дул ветер, тополя за окнами тревожно шумели усыхающей осенней листвой.
Пол Драйден хотел продолжить разговор о царевиче Алексее, но Рогов, задумчиво пощелкивая ногтем то по чекушке, то по бутылке и сравнивая, как настройщик, тембр звука, сказал, что вспомнил сейчас одну историю, которая с ним приключилась в юности. Он тогда закончил университет и поступил в аспирантуру, но вообще-то такое могло бы случиться с любым пьющим русским интеллигентом, включая царевича Алексея, так что Полу Драйдену полезно будет послушать.
Началось с того, что Рогов поехал на родину хоронить свою деревенскую бабку по матери. Бабка жила в одной деревне, а мать – в другой, километров за пятнадцать, и в то время сильно болела, пришлось отправиться на похороны без нее. Прочая родня собралась, бабку похоронили, помянули, а после поминок, когда стали делить наследство, Рогову каким-то образом досталась бабкина коза. Он хотел сразу же ее кому-нибудь сбагрить, но родственники, разбирая пожитки покойной, говорили, что берут всё это на память о ней. Отделываться от козы стало совестно, Рогов повязал ей на рога веревку, и вдвоем тронулись в обратный путь, к матери. Вышли уже под вечер, смеркалось. Была зима, внезапно налетела вьюга, они шли через поле, и дорогу перемело. Рогов решил ночевать в сугробе. После поминок хмель еще не весь выдуло, он притулился под боком у козы, намотал на руку веревку, сверху нагреб снегу и уснул. Было вполне терпимо, лишь к утру замерз, и коза тоже как-то охолодала. Утром они вылезли из сугроба и побрели дальше. Вскоре дошагали до большого села, лежавшего примерно на полпути между той деревней, где жила мать, и бабкиной. Идти оставалось не так уж долго, погода исправилась, но тут Рогову невыносимо захотелось выпить. А денег с собой – ни копейки, первая жена перед дорогой всё выскребла, не оставив даже на обратный билет. Мол, там, на родине, ему не дадут пропасть. Тогда Рогов снова склонился к крамольной мысли продать козу. Он начал останавливать прохожих, стучался во дворы, но желающих не находилось. В конце концов один местный куркуль согласился купить бабкину деревянную скотинку за три рубля. Больше, сволочь, не давал, говорил, что и того много. Дескать, и так берет грех на душу – коза-то, видать, краденая. Рогов плюнул, отдал ему козу, взял трояк и полетел в магазин. Он еще раньше заглядывал туда и отметил, что чекушки там есть, можно, значит, обойтись и трешкой. В магазине стояла очередь, мужики брали по две, по три бутылки каждый, по-богатырски. Рогову неловко было покупать одну жалкую чекушку. Вроде интеллигент. Хотя никто его ни о чем не спрашивал, он, заранее оправдываясь, начал объяснять соседям в очереди, что, мол, собирается взять чекушку, но не пить, а дочке на компресс, дочка простыла. Такой вариант казался ему предпочтительнее. Трезвенников народ уважает, малопьющих – нет. Он уже приближался к прилавку, как вдруг стоявшая неподалеку старушка таинственно поманила его пальцем и шепнула, чтобы дал ей свои три рубля, не пожалеет. Рогов решил, что на эти деньги она вынесет самогону, и согласился. Старушка ушла, через десять минут вернулась, но не с бутылкой и не с банкой, а с маленькой баночкой из-под майонеза. Баночка была наполнена желтой густой мазью, не то жиром. Она велела растирать дочке спину и грудь и исчезла, растаяла в воздухе, как фея. Окаменевший от горя Рогов остался при этой скляночке. В ярости он хотел шарахнуть ее о стену, но все-таки передумал, сунул в карман, и, как оказалось, не напрасно.
Если до этого момента история сохраняла видимость правдоподобия, то дальше всё подергивалось мистической дымкой. Куда-то Рогов затем шел или ехал в автобусе, попадал в чей-то дом, где болел единственный ребенок, угасал, никакие лекарства не помогали. Врачи уже признали свое бессилие, но Рогов растер девочку мазью, после чего она впервые за много дней спокойно уснула, а через пару часов проснулась и попросила кушать. Счастливые родители устроили для Рогова застолье. Он пил, ел, веселился, потом вдруг уронил голову на стол и заплакал, потому что стыдно было перед бабкой, что продал ее любимую козу, и перед козой, которая в буран согревала его своим телом, а он продал ее за три рубля. Хозяева переполошились: что с ним? Рогов рассказал, тогда хозяин встал, шубу надел, говорит: «Пошли!» Они пошли, разыскали того куркуля и потребовали вернуть козу. Хитрый куркуль заломил за нее двести рублей и не уступал ни копейки. Рогов готов был отдать ему часы, шапку, мохеровый шарф, но отец девочки сказал: «Не надо!» На радостях он не постоял за деньгами. Козу выкупили за две сотни, и она еще много лет прожила у матери, причем до самой смерти доилась, как корова.