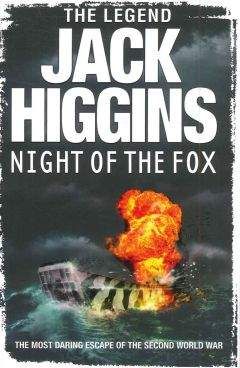Анна Политковская - ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ
– Полковник Миронов. Разрешите представиться!
Он стоял в проходе, спокойно удерживая тело в равновесии и лишь одной рукой касаясь вертолетной обшивки. Просто чудо: откуда такая сила взялась? Ведь еще каких-нибудь пятнадцать минут назад он был таким же нормально-подавленным, как остальные, и его тело привычно швыряло в такт противозенитным маневрам вертолета. А тут – поди! – машина садится, и значит, ее трясет, будто в малярийной лихорадке, а полковник стоит себе посередине в позе вальяжного курсанта в увольнении: «правая нога чуть вперед, левая – опорная».
Спустились по выброшенному трапу. Мы устало сползли, а полковник слетел и побежал по летному полю кругами, хохоча, подпрыгивая и вертя головой с черным кудрявым вихром над открытым лбом, изборожденным ранними глубокими морщинами. Шел теплый несильный дождик, и Миронов, оказавшийся на взлетно-посадочном свету крепко спаянным, даже круглым от натренированной мышечной массы человеком, вытянул руки вверх и принялся ловить губами эту воду с неба, переставшего быть страшным.
Миронов был заразителен. Офицеры, выгрузившиеся из вертолета, потихоньку освобождались от привычной для Чечни «замороженное™», когда человек боится и того, что слева, и того, что справа, сбоку и впереди, а того, что сзади, – панически. Офицеры уже шумели, обсуждая, где ночевать. Потекли анекдоты, подколы, громкий и тоже совсем не «чеченский» общий смех.
Миронов завопил:
– Все – в ресторан!
– Что отмечаем?
– Еще не поняла?… Значит, ты редко бываешь в Чечне! – Он сильно тряхнул меня за руку, требуя быть по-понятливее. – Мы будем отмечать одно – то, что мы – живы! Опять! Что и на этот раз выжили! Что мы сегодня – не на войне! Что я – жи-и-во-ой!… Что ты – жи-и-ва-я-я!!
Последний крик был уже со стороны. Полковник убегал от нас все устраивать и узнавать – где тут хороший ресторан, что там готовят, как туда добраться. Ночные служащие аэропорта с опаской посматривали из окон диспетчерской вышки на странную компашку, нежданно спустившуюся с кавказских небес: не пьяное ли сейчас начнется безобразие и не пора ли вызывать милицию.
Скоро Миронов вернулся. Легко подхватил сумки и рюкзаки и, чувствуя себя путеводной звездой в ночи, поволок за собой. «Жив!… Жи-вы!…» – хохотал он, передвигаясь очень быстро, но мы, зараженные полковником, уже успевали за ним. Мы тоже изменились, и все были так же невесомы, молоды и счастливы, как этот полковник, – мы зажглись от него и чувствовали, насколько пьяны радостью вновь полученной жизни. Потому что… И в вертолете, она, конечно, висела на волоске, как это повелось в Чечне, да и к ночевке в Гудермесе тоже надо было готовиться, как к обороне… А тут виды Владикавказа: густые полусонные акации, тихие чистые улочки, мягкие фонари и люди, медленно прогуливающиеся, несмотря на поздний вечер и нашу стойкую привычку прятаться по углам в это время наступления комендантского часа, – все это нас уже опьянило. Хотя никто еще не притронулся ни к вину, ни к водке.
…К девяти начался полный разгул, хотя бутылки так и стояли почти нетронутыми. Мы шалели от самих себя, в целости и сохранности сидящих в этом североосетинском кафе. Мы плели друг другу пьяную чушь, мы были семьей, даже не зная имен. Мы вместе сходили с ума, мы понимали друг о друге все – и мы не хотели завтра.
Но лидером среди нас все равно оставался Миронов. С аппетитом поглотив тьму местных деликатесов, полковник отправился танцевать. Одну за другой он приглашал женщин, которые оказались рядом, клялся каждой в вечной любви и дружбе, причем так, что слышали остальные, но сам он, конечно, на это не обращал никакого внимания – он жил мгновением, и все женщины
казались ему великолепными, и ни одну нельзя было отпустить без лучших слов, когда-либо придуманных человечеством.
Каждый танец Миронова заканчивался зажигательно. Он брал очередную партнершу на руки и неистово кружил и кружил, и еще раз кружил ее, прильнувшую к нему, по зеркальному залу дорогого кафе… Кружил, даже если музыка заканчивалась. Кружил, даже если партнерша выглядела не такой уж невесомой.
Этим вечером полковник не чувствовал ни тяжести, ни усталости, ни трудностей. Он парил, он сгорал от страсти сбежавшего с эшафота. «Мы живы! Понимаешь?» – шептал он мне на ухо, когда пришла моя очередь танцевать с ним. Шептал так, как другие раньше произносили лишь: «Я люблю тебя».
Оказалось, он не вылезал из Чечни уже больше года и если что и имел за эти отвратительные месяцы, так кратковременные случайные попадания в мир, наподобие нынешнего.
– Сколько раз ты возвращался живым?
– Сегодня – шестой. – Он поставил меня на пол. – Как ты считаешь, можно испытывать удачу в седьмой раз?
И не интересуясь ответом, потому что знал, что нельзя, – тут же громогласно возвестил начало следующей игры:
– Всем женщинам – цветы!
И подлетел к крошечной эстраде, и привычным резким движением, каким офицеры выхватывают пистолет в мгновение опасности, выдрал микрофон из рук растерявшегося ресторанного певца.
Это полковник хотел петь. И пел целый час. Сам себе. Для себя. Ничуть не заботясь ни о чем: ни о том, что его устали слушать, ни о том, что он редко попадает в ритм и музыкальную интонацию.
Этой ночью у него были только свой собственный ритм и своя мелодия. Закончил полковник логично – колыбельной. И потребовал коньяка.
– Куда тебе завтра?
– Решила – в Москву.
– Когда прилетишь снова?
– Недели через две.
– Не торопись, нехорошо сейчас.
– Знаю. Не буду. А ты куда?
– Утром – в Чечню. Вертолетчики сказали: погода будет.
– Удачи.
Мы знали друг друга часов пять. Может, шесть.
А говорили, словно роднее не бывает. Как спустя лет тридцать счастливого брака. Короткими фразами, и ничего не требовалось разжевывать, и все мы понимали с полуслова и полудвижения…
– Знаешь, я уже не могу сильно расстроиться от того, например, что нет денег.
– И я. Или что муж ушел…
– А твой муж ушел?
– Ушел.
– Ерунда.
– Ерунда.
Это уже глубокая ночь и не кафе. Мы говорим в холле одной владикавказской гостиницы, где не оказалось мест за те деньги, которые у нас остались.
– И когда ушел?
– В начале войны. Пил-гулял-прожигал, а потом ушел. Но это такие мелочи по сравнению…
– По сравнению с чем? – проверяет все-таки.
– Сам знаешь.
– Знаю. С жизнью и смертью.
– И я благодарна войне, на которую случайно попала и так же случайно застряла, потому что знаю теперь, как быть выше ерунды. Война – отвратительная вещь, но она вычистила меня от всего ненужного и отсекла лишнее. Мне ли быть не благодарной судьбе?
Миронов молчит. Он согласен. Но о себе в ответ не распространяется. И незачем. Все понятно без слов. Мы – люди одной крови, нам влили ее на войне, и она бродит в нас, как гормоны, и слишком часто заводит нас в никуда, в темную комнату без дверей, и, когда в самый последний миг все-таки отпускает, мы понимаем, до чего же одиноки и обречены искать по миру себе подобных, которые знают о жизни то, что большинство не прочувствует никогда. Быть может, мы и хотели бы поделиться с остальными этой своей тайной, но мир, никто ничего не желает знать, никому нет до этого дела.
…Ранним утром Миронов провожал до трапа тех, кто улетал в Москву. И в нем ничто не напоминало того розовощекого черноволосого крепыша, что вечером чудил во владикавказском кафе. Миронов оказался человеком с сильной проседью, был сер лицом, печален, отвечал невпопад и, похоже, думал о плохом.
– Не нервничай, я позвоню тебе домой. Скажу, что все отлично. – Что я еще могла выдать, кроме привычных «чеченских» фраз, которые говорят все, кто улетает, всем, кто остается?
– Ну позвони… Все отлично… – повторял он, как магнитофон. – Старший сын – в Суворовском. Младшему – три года. Жена – молодая красавица. И что дальше?…
– Дальше – надо верить в удачу. Мы – никто без нее. Промолчал. Значит, не согласился: он очень хотел в
Москву. Подарить на память было совершенно нечего, а очень хотелось. Я стянула шарф и отдала полковнику. Но он даже не улыбнулся, верный «чеченской» хандре и интуиции.
В следующий раз мы встретились уже в подмосковном госпитале. Миронов позвонил и сообщил, что ранен.
– Тяжело ранен? – глупо переспросила я, потому что все знают: в подмосковные госпитали возят из Чечни только тяжелораненых.
– Обычно, – так же бессмысленно соврал он.
Я испугалась: мы перестали быть людьми одной крови? И надо говорить лишнее?
Но первое же, что выдал Миронов, приветственно помахивая рукой со своей скрипучей казенной койки, успокоило:
– На этой войне я возненавидел слово «никогда». Потому что «никогда» наступает тут же.
Это было именно то, о чем думала и я, поднимаясь в его палату. Значит, мы – прежние. Он знает, что я есть, а я знаю, что он есть. Слишком много для плохо знакомых людей? Нормально – даже для совершенно незнакомых, побывавших там, где мы побывали.