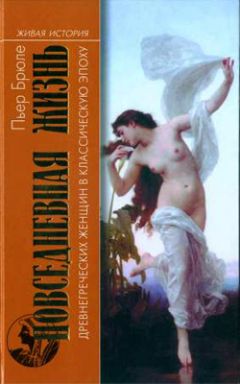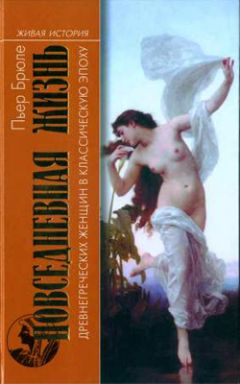Пьер Дэкс - Убийца нужен…
Даниель успел прочесть на мелькнувшем указателе: «Труа, 14 км». Чтобы сгладить неприятное впечатление, он сказал:
— А знаете, господин аббат, мой отец ходил к мессе каждое воскресенье…
Кюре не сдержал улыбки.
— Я спрашивал вас не об этом, сын мой. Очень хорошо, конечно, что вы так любите своих родителей…
Голос кюре замер. Было похоже, что аббат не намерен продолжать беседу. Лавердон все время чувствовал, что допустил ошибку. По правде говоря, он слушал аббата с удовольствием. Кроме того, ему хотелось быть любезным, чтобы как-то отблагодарить аббата за бесплатную доставку в Труа.
Он спросил:
— И долго вы работали в тюрьме?
Аббата передернуло. Даниель сообразил, что слово «работали» не вполне уместно, но поправляться было поздно. Ясно, за последние десять лет его словарь несколько сократился. А попу нечего жеманничать.
— Да, в свое время, — уклончиво сказал аббат.
Он умолк надолго и снова напустил на себя вид всепонимающего исповедника. Ну, если он думает произвести впечатление на Даниеля…
— В то время я стремился оказать помощь людям, которых тогдашнее правительство бросало в тюрьмы…
— Тогдашнее правительство… Сволочи! — зарычал Лавердон.
— Простите им. Они же вам простили.
Даниель совсем растерялся. Что он должен прощать? Кому? Мерзавцам, которые прошли через его руки? Из них немногие остались в живых. Этой Метивье? Да она не успеет наплодить ублюдков… Пусть лучше сожрет свое свидетельство о рождении. Теперь уж он до нее доберется. Скоро будет чистка, настоящая, самая последняя. Без дураков на этот раз, без сентиментов. И чего хочет добиться этот кюре своим прощением? Помешать ему, Даниелю? Защитить своих дружков? Ну, нет!
— Всех их надо прикончить! Всех до одного! — И Лавердон обеими руками сделал движение, точно бил из огнемета. Долгими тюремными ночами мечтал он о такой минуте. Могучий поток огня вылетает из его рук — и тела, которых он коснулся, мгновенно становятся кучами пепла. Легкое дуновение — и они рассыпаются в прах. Да, огнемет — хорошая, беспощадная штука… Даниель посмотрел на аббата с высоты своего роста. У того была кислая, недовольная морда.
— Все они — враги христианской цивилизации! — с издевкой произнес Лавердон. — Как вьеты. Всех их пора в расход. Всех вьетов надо уничтожить, об этом я читал у главного бухгалтера тюрьмы. Этот тип засыпался на арасских бонах, вы, наверное, слыхали об этом. Он получал газеты, там прямо было написано — истребить всех вьетов…
Вам не следует думать об убийствах, сын мой.
Я о них не думаю, господин аббат. Я мог завербоваться в Корею, но не захотел. Впрочем, этого вам не понять…
— Почему? Вы страдали. Вам достаточно одной войны.
— Вы почти угадали, господин аббат, но не совсем. Под конец я угодил в немецкий иностранный легион СС. Я проделал все отступление с немцами от Одера до Берлина, а русские так вцепились нам в задницу, извините за выражение… Когда наверху, в штабе, фрицы решали удержать какую-нибудь позицию, нас ставили туда. А настоящие эсэсовцы, немцы, расстреливали нас, чтобы мы не бежали. Иногда случалось контратаковать. Это делалось для газет, для коммюнике верховного командования… Вместе с нами в атаку шли эсэсовские танкетки, но, конечно, не впереди, соображаете? Немцы уверяли, будто русские расстреливают пленных на месте. Кое-кто сомневался, и немцам приходилось сводить концы с концами. Газеты писали, что мы — отборные части, войска элита…
— Забудьте об этом!
Слова аббата прозвучали, как приказ. Может быть, ему неприятно слушать? Тем хуже для него. Даниель открыл было рот, но снова закрыл его. Нет, лучше помолчать. Все это слишком сложно, да и не привык он объяснять. Осенью сорок четвертого года его часть использовалась для карательных экспедиций против польских партизан. Было приказано широко применять огнеметы. То, что оставалось после их работы, должно было заставить призадуматься живых. А уж о девках нечего и говорить…
Неплохое было времечко. Они имели дело не столько с партизанами, сколько с населением, помогавшим партизанам. А потом их перебросили на охрану немецких тылов, тут им пришлось столкнуться с настоящими партизанами. Это было похуже. В январе, когда русские после двухдневного адского обстрела прорвали фронт на Одере, легион побежал на запад. На взгляд немецкого командования, он бежал слишком быстро. К ним примчался оберштурмфюрер СС и объяснил, что личное дело каждого сбежавшего будет оставлено русским. «Русские считают участие в карательных экспедициях военным преступлением. Повторяю: военным преступлением. За это они вешают». Стук люка — куик! — и веревка врезается в шею… Впрочем, эсэсовец сражается за своего фюрера до самой смерти. Так что же лучше: быть расстрелянным или повешенным? К несчастью, господин оберштурмфюрер в тот же день поймал шальную пулю в затылок и умер за честь легиона. Но это не решало вопроса.
Даниель не очень-то верил в эти россказни. Вокруг них жужжала всякая пакость, готовая уложить хоть легион ради спасения своей драгоценной шкуры. Отвратительная накипь долгих военных неудач, сметенная в кучу надвигающимся разгромом. В эти последние дни они даже не пытались задуматься над тем, что их ждет. Легионеры стали обращаться с немками, как со всеми прочими бабами. Лишь огромное количество трипперов заставило их образумиться. Казалось, войне не будет конца, как змее, закусившей собственный хвост. Но в один прекрасный день русские нажали еще разок — и все развалилось. Во Фленсбурге, столице несуществующей империи, воцарился адмирал Дениц, а легионеры занялись своими делами. Лавердон заколол кинжалом французского сержанта подходящего роста. Новая форма и документы превратили его в торжествующего победителя. При проверках он всегда стрелял первым. Победитель быстро вспомнил прежние приемы, и, если французы их не понимали, всегда находился американец, готовый оценить его искусство по достоинству. Лучше всего было возвращаться через Испанию. Для этого было достаточно попасть в конвой военнопленных, эвакуируемых в Швейцарию. Однако следовало поторапливаться, пока оккупационные власти не успели навести порядок.
Вдвоем с приятелем, владевшим несколькими барами на юге, Даниель добрался до Марселя. Там они остановились. Даниель быстро научился получать удовольствие от игры в шары и померанцевой настойки, он уже подумывал о том, чтобы надолго и на свои средства обосноваться за стойкой. А там, глядишь, подвернется возможность удрать в Аргентину… Но не вышло. Хозяин одного из кабаков, где дружок Даниеля имел приличную долю, решил, что лучшего времени для сведения счетов не придумаешь. Деликатно и умело он продал приятелей полиции. Дружок Даниеля был человек довольно нервный. При аресте он вытащил свой пистолет системы «Люгер», и его пристрелили на месте. Даниеля взяли в постели, так что он и шелохнуться не успел. Шпики заявили, что девчонка, спавшая с ним в ту ночь, несовершеннолетняя. В антропометрическом кабинете все выяснилось. Поднялся адский шум: сенсационная поимка крупного военного преступника! Полицейский комиссар утопал в блаженстве…
Скверное воспоминание. Как и тот обморок при взгляде на папашу, искупившего свои грехи. Не надо думать об этом. Не надо. Аббат теперь не отрывал глаз от дороги, руки его судорожно сжимали баранку. «Труа, 8 км».
Лавердону вдруг захотелось пофорсить.
— Знаете, господин аббат, я ничего не собираюсь забывать. Да, хорошее было время. Но сейчас, понимаете ли, я берегу себя для настоящего дела.
— Вы хотите сказать, что готовы начать все сначала?
— А что? Нам жилось неплохо. Скучать не приходилось. Но такое не повторяется…
Аббат вздохнул. Он ожидал продолжения исповеди. Даниель почувствовал, что кюре начинает действовать ему на нервы. Но в конце концов до Труа оставалось семь километров. Не стоило жаловаться, не стоило быть чересчур требовательным. Ведь столько ребят, причем самых крепких, не сумели выпутаться…
Аббат, очевидно, продолжал размышлять. Наконец он сказал небрежным тоном:
— В общем, вы ни о чем не жалеете.
— Конечно, жалею. Как и все, я жалею, что дал себя замести. Посадить, если вам так больше нравится…
— У вас не было другого выхода!
Каждое слово аббата падало, как топор. Даниель сделал над собой усилие и сказал мягко и бесстрастно:
— Выход был. Надо было в сорок четвертом году пролезть в Первую французскую армию, добить немцев, заработать нашивки и сразу же перебраться в Индокитай. Ребята, которые это сообразили, отделались сущими пустяками…
Даниель задумался. Скажем, Филипп Ревельон, старинный товарищ, подкармливавший Даниеля посылками в тюрьме… Он же прислал и деньги, которые Даниель показывал аббату… Так этот Филипп Ревельон вообще не сидел в тюрьме. Когда-то, в первые дни их дружбы, Даниель прозвал Филиппа Бебе. У него тогда и в самом деле была хорошенькая мордочка. Когда они обделывали свое первое дело на черном рынке, Филиппу понадобилась кличка, и прозвище стало кличкой — Бебе. Сначала Даниель не очень доверял этому высокому парню с девичьим лицом, изящному и хрупкому. Однажды Мардолен, милицейский шофер, позволил себе пошутить над Ревельоном. Он уверял, что Ревельона надо звать не Бебе, как его звал Даниель, а Фифи, раз его имя Филипп…