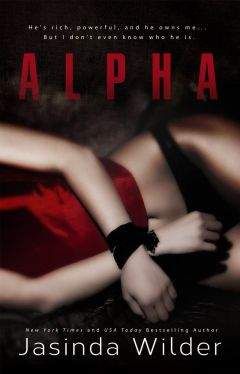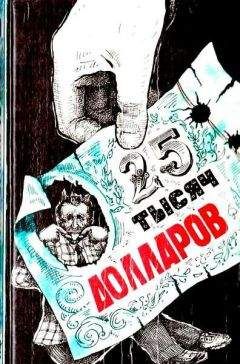Флетчер Нибел - Вторжение
— Когда и как вам удалось проникнуть сюда? — прервал его Тим.
— Ещё до подхода войск я пробрался через лес. Главное сейчас вот что: сможете ли вы помочь нам, если в этом возникнет необходимость?
— Почему именно я?
— Вы предпочитаете, чтобы вас тут пристрелили? — задал вопрос Дилл. — Или чтобы прикончили вашу жену и ваших детей?
— Конечно, нет.
— Так что вам лучше держаться рядом с Беном и со мной. И если я позову вас, делайте то, что я вам скажу. Договорились?
— Хорошо. — Выбора у него всё равно не было.
Джексон Дилл торопливо отошёл от окна, растворившись в безлунной ночи.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Ночь тянулась бесконечно, и судьбы захваченных домов продолжали оставаться неясными. Во всех концах огромной страны, охваченной тревогами и сомнениями, шли бесконечные разговоры и жаркие дебаты. Радиостанции надрывались в эфире. Социологи проводили полуночные опросы. Патриоты, кипя негодованием, выкрикивали броские банальности. Журналисты с олимпийской невозмутимостью насиловали свои пишущие машинки. Ведущие телевизионных ток-шоу, заходясь от удовольствия, давали многочисленные советы. Температура в котле общественного напряжения продолжала расти, и всем — от рабочих до коммерсантов, от белых расистов до чёрных мятежников, от ассоциаций помощи полиции до защитников гражданских прав, от милитаристов до пацифистов — всем было что сказать. Америка, страна, где никто не медлил со своим мнением, в эту ночь превратилась в огромный дискуссионный клуб. Призыв Президента Рэндалла к спокойствию был встречен громогласной разноголосицей. На каждый рассудительный голос приходилось не меньше сотни возмущённых оппонентов.
В течение этой ночи предстояло разобраться в паутине взглядов и мнений — найти и извлечь из неё то, что наилучшим образом служит интересам общества. Первым делом речь должна была идти о детях. Спикер нижней палаты, давно перешагнувший тот возраст, в котором пора читать собственные некрологи, выступил по телевизору и сообщил нации, что все её заботы и устремления должны иметь целью безопасность девятнадцати юных пленников. Он говорил скорбно и торжественно, с печалью, присущей владельцу собственности. Старческие глазки спикера слезились, и зрителям оставалось только догадываться, скорбит ли он о детях, или о своей прошедшей молодости или по поводу угрозы институту частной собственности. Дало знать о себе и руководство профсоюза работников автомобильной промышленности. Во имя маленьких детей оно взывало к сдержанности, но в интонации заявления, казалось, проскальзывал подтекст, обращённый к соотечественникам, что их озабоченность судьбами детей продиктована лишь общепринятыми правилами, но на самом же деле их волнует нечто иное.
Поскольку американская традиция требовала воспринимать юное поколение как объект заботы и сочувствия, каждый оратор отдавал ему дань прежде, чем перейти к более серьёзным экономическим материям. Допоздна горел свет в офисах крупных корпораций, где, не покладая рук, трудились специалисты по связям с общественностью. Им предстояло органично объединить возникшую этим вечером озабоченность исполнительной власти с тем возмущением общества, которое разразится на другой день. Тут и там сквозь покров общих выражений пробивались искренние голоса. В Сан-Диего в ходе прозвучавшего по радио ток-шоу в голосе матери шестерых детей звучала боль и тревога — она представила, что и её дети могли оказаться в роли заложников. В Нью-Йорке группа чёрных и белых матерей направилась к дому Вирджинии Джонс с просьбой, чтобы певица помогла освободить детей. Их остановил швейцар, сообщивший, что мисс Джонс находится на баррикадах у Принстона. Но эта демонстрация искренней заботы о маленьких пленниках явилась исключением. И хотя родители по всей Америке высказывали свою озабоченность, детям во всех шести захваченных домах была отведена роль пешек в той всеобъемлющей игре, где речь шла о социальных и экономических категориях.
Ещё одна тема, озвученная неким правым политиком, заставила оцепенеть нацию: я вас предупреждал. Этот ханжески благочестивый и в то же время мстительный возглас, который издал Джон Бирчерс, поддержали члены совета белых граждан и остатки легиона последователей Джорджа Уоллеса, клансмены, дряхлые генералы и адмиралы, белая голытьба Юга, вездесущие «синие воротнички» и розовощёкие дочери аккуратных старушек в теннисных туфлях. Их общее негодование вылилось в единодушное воззвание: «Мы вам говорили, что это случится. Вы хныкали над судьбой бедных несчастных меньшинств. Вы благоговели перед чёрными анархистами из гетто. Вы выбрали своего Президента, человека, который продал своё гордое право англосаксонского первородства за чечевичную похлёбку негритянских голосов.
И теперь вы, посеяв ветер, пожинаете бурю». Как ни странно, хотя правые откровенно злорадствовали по поводу дилеммы, представшей перед Рэндаллом, они не осмелились пойти дальше осуждения прошлых грехов. Они не призывали ни к артиллерийскому обстрелу позиций Ч. Ф., ни к применению слезоточивого газа, ни к штыковым атакам. Почему же и нет? Ну, вы же понимаете, там дети.
Со стороны левых доносился хор ликующих возгласов. «Студенты за демократическое общество» откровенно провозглашали дерзкие лозунги в поддержку «Чёрных Двадцать Первого Февраля». В Беркли тысячи молодых людей, белых и чёрных, запрудили ночные улицы с возгласами: «Хо! Хо! Хо Ши Мин! Долой собственность! Да здравствует Ч. Ф.!» В эту ночь Данни Смит стал очередным святым для Новых Левых, тут же заняв место среди таких идолов революции, как Че Гевара, Герберт Маркузе, Даниель Кон-Бендит, Марк Рудд, Мао Цзедун, Франц Фаннон и недавней знаменитости П. Барнхэма Аутербриджа. Тот был тощим рыжим старшекурсником, который несколько месяцев назад в одиночку захватил финансовый отдел университета Пердью. Он пригрозил взорвать его, поставив условие, что футбольная команда университета должна быть распущена, а её место займёт хоровое общество, состоящее исключительно из студентов, которые дадут обет никогда не брать в руки оружия, разве что для защиты страны от вторжения. Аутербридж удерживал занятые позиции в течение двадцати суток, имея при себе лишь зажигалку и три палки динамита с бикфордовым шнуром. Пердью и футбольная команда одержали сомнительную победу лишь потому, что Аутербридж наконец потерял сознание, и охрана кампуса вынесла его отощавшее тело и обезвредила заряд динамита. Из своих 135 фунтов веса Аутербридж потерял 43, но вряд ли обратил на это внимание, поскольку тут же обрёл статус святого мученика и принялся писать историю своей жизни, за которую «Плейбой» выложил ему 45 тысяч долларов, то есть, более тысячи долларов за каждый потерянный фунт.
Хотя Новые Левые в эту ночь издавали громогласные нестройные вопли, в них не было осознанной озлобленности. Может быть, юные Робеспьеры, решив, что может разразиться революция, заглянули чуть дальше за ее пределы и ужаснулись увиденному. И на упрёки в отсутствии решимости они отвечали: вы же понимаете, там дети.
В тех единственных критических голосах, что доносились из гетто, не было торжества трубного гласа. Узкие вонючие улочки чёрных трущоб были безмолвны — как и замусоренные стоянки и обшарпанные витрины магазинов. Все помещения полицейских участков, вплоть до раздевалок, были отданы под размещение резервистов и отставных копов, призванных на помощь — при первых признаках волнений они были готовы, вооружившись дубинками и револьверами, высыпать на улицы. Но на бульварах и аллеях, где обычно по вечерам фланировали молодые люди в цветастых штанах и девушки в мини-юбках, царило зловещее спокойствие. Не считая слухов, циркулировавших в полиции, оно имело самые различные объяснения. Все негры, говорили одни, как и белые, сидят по домам, наблюдая по ТВ за драмой, что разворачивалась вокруг захваченных домов. Другие считали, что оно служит предвестием бури. Едва только порыв ветра принесёт новые приказы Дэниела Смита, все гетто взорвутся и белые пригороды запылают со всех концов. Ходило мнение, что чёрные пируют по домам, не скрывая радости перед долгожданным развитием событий — наконец-то кара обрушится на богатые белые общины и их шикарные летние резиденции. Высказывалась та точка зрения, что гетто испытывает облегчение, которое проявлялось лишь в ехидных репликах. Пусть себе этот Ч. Ф. покажет белым, почём фунт лиха, а мы посмотрим со стороны, что у них получится. Такое настроение чувствовалось повсюду от Гарлема до Уоттса. Но во всех гетто чёрного пояса появились облачённые в свою униформу члены Ч. Ф. в оливково-зелёных джинсах и глухих чёрных свитерах, украшенных медальонами с изображением Франца Фаннона, они упругой кошачьей походкой фланировали среди трущоб, нашёптывая советы внимательно слушающим их молодым людям. Никто точно не знал, о чём шла речь, хотя порой удавалось услышать странное слово «Гамал». Говорилось кроме того, что звёзды благоприятствует чёрным, потому что «Данни получил от них хороший знак». Открыто восхвалялось безоглядное мужество Смита. Больше всего полицейских наблюдателей поражала дисциплина этой молодёжи, её ледяная вежливость и, главным образом, их количество. Там, где в больших городах на прошлой неделе можно было встретить пять или десять такого рода юношей, их оказались сотни и сотни. Когда негры постарше обращались к ним с вопросами, молодые бунтовщики только посмеивались. Что они собираются делать? Пока ничего, старче — ты же понимаешь, там дети.