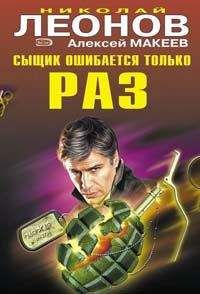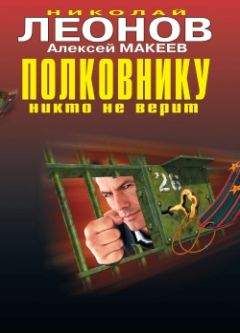Деон Мейер - Семь дней
Впервые с начала следствия дело начало приобретать какой-то смысл. Можно исключить фактор случайности: убийца получил основания для того, чтобы прийти к ней, мотив для того, чтобы взять с собой большое колющее орудие. Существенный мотив: кража. Кража не в общепринятом смысле слова. Ему не нужны были ни мобильник, ни ноутбук. Слут владела чем-то, обладающим для убийцы огромной ценностью. Для убийцы, которого она знала и которого впустила в свою квартиру.
Возможно, она собиралась с ним поторговаться.
Все это казалось логичным, когда Гриссел размышлял о Ханнеке Слут. Все увязывалось с ее планами, биографией и возможностями. Именно поэтому он, сам того не сознавая, утром поехал к Роху. Ему хотелось больше узнать про то, каким человеком была Ханнеке. Поэтому же Бенни договорился сегодня встретиться с двумя ее лучшими подругами. И с ее коллегами, которые вместе с Ханнеке обеспечивали юридическое сопровождение важной сделки.
35
В десять минут второго он постучал в кабинет профессора Пейджела на медицинском факультете Стелленбошского университета, рядом с больницей Тайгерберг.
– Войдите! – крикнул из-за двери знакомый певучий голос.
Гриссел улыбнулся, увидев длинное, аристократическое лицо профессора. Пейджел, как всегда броско одетый, сидел за письменным столом. Загорелый, подтянутый, он выглядел значительно моложе своих пятидесяти девяти.
– Никита! – радостно воскликнул патологоанатом. Пейджел называл его Никитой вот уже тринадцать лет. При первом знакомстве, едва бросив взгляд на Гриссела, он объявил, что тот напоминает ему молодого Хрущева.
– Добрый день, профессор!
– Входите, садитесь. Рассказывайте, как у вас прошел вечер с богатыми и знаменитыми?
Гриссел совсем забыл, что сам просил у Пейджела совета перед той ужасной вечеринкой.
– Ах, профессор! – Он покачал головой. – Не слишком.
– Что случилось?
Бенни рассказал ему все, ничего не утаив.
Пейджел запрокинул назад свою большую голову и расхохотался. Бенни, сгоравший от стыда, лишь едва заметно улыбнулся в ответ, потому что понимал: ему тоже было бы смешно, не случись такое с ним самим.
– Давайте теперь я вам расскажу, как я сел в лужу, – сказал Пейджел, успокоившись. – Никита, вам известно, кто такой Лучано Паваротти?
– Толстяк с носовым платком?
– Он самый, Никита. По-моему, он – лучший тенор в истории. Феноменальный голос! Я не говорю о его последних годах, когда он в основном работал на публику. Я говорю о его расцвете. Идеальный тембр! Он пел так самозабвенно, так легко! Невероятно… В общем, сказать, что я был его фанатом, – значит ничего не сказать. Я собрал все его записи. Без конца слушал их и мечтал только об одном: хотя бы раз в жизни услышать живого Паваротти. И вот в восемьдесят седьмом году он и Джоан Сазерленд давали концерт в нью-йоркской Метрополитен-опере. Сазерленд, Никита, – лучшее сопрано мира. У нее прозвище La Stupenda – Великолепная. И вот мой близкий друг Джеймс Кэбот из Университета Джонса Хопкинса сообщает, что не только достал нам билеты, но и может после концерта провести нас в гримерку, и я познакомлюсь с самим Паваротти! Короче говоря, Никита, впервые в жизни мне ничто не помешало; нашлись и деньги и время. Мы с женой полетели в Нью-Йорк. Что вам сказать о концерте? Захватывающе, величественно. А квартет из «Риголетто» – это что-то восхитительное! Я запомнил его на всю жизнь. В общем, после концерта мы отправились за кулисы. А надо вам сказать, что я целых две недели подтягивал свой оперный итальянский. Мне очень хотелось выразить великому человеку восхищение на его родном языке. Я заучил фразу: «Вои сьете магнифичи. Соно ун гранде фан», то есть: «Вы великолепны, я ваш большой поклонник». Но я опростоволосился, Никита, совсем как вы со славной мисс Бекман. Совершенно забывшись, захваченный величием момента, я сказал человеку, которым так восхищался: «Соно магнифичи», то есть: «Я великолепен»… – И Фил Пейджел снова добродушно рассмеялся.
– В самом деле, профессор? – с изумлением спросил Гриссел.
– В самом деле, Никита. Паваротти как-то странно на меня посмотрел, отвернулся и начал разговаривать с кем-то другим. К тому времени, как я понял, как оплошал, было уже поздно. Прошло много месяцев, а я все еще краснел за свою фо па и жалел о том, что тогда случилось, и упрекал себя. А все, что тут можно сделать, – рассмеяться. И понимать, что действовал из лучших побуждений. И по-прежнему наслаждаться его замечательным голосом.
Гриссел почувствовал, как по нему медленно расползается облегчение. Если уж что-то такое могло случиться с профессором Филом Пейджелом, человеком, которым он так восхищается… Он не понял только одно слово.
– Профессор, что такое «вопа́»?
– Фо па, – повторил Пейджел. – Это по-французски «проступок, оплошность». Но по-французски получается как-то острее.
– Фо па, – повторил Гриссел. Выражение ему понравилось.
– Время от времени такое случается с каждым… Но ведь вы приехали сюда не для того, чтобы слушать истории о моих прегрешениях… – Пейджел придвинул к себе толстую папку. – После вашего звонка я снова взглянул на свои заметки по делу Слут. И знаете, кого я вспомнил? Убийцу с ассегаем, которого мы искали несколько лет назад. «Артемида», народный мститель…[11]
– Я хорошо его помню, профессор.
– Так вот, Никита, тогда я в последний раз видел похожие раны. Не точно такие, а похожие. Поскольку Слут нанесли всего один удар, судить о сходстве довольно трудно – мало данных. Поэтому любой вывод по определению грешит неточностью. Но вы ведь приехали ко мне именно для того, чтобы послушать мои соображения…
– Да, профессор, очень вас прошу!
– У нашего орудия убийства имеются общие черты с лезвием ассегая. Ромбовидное сечение клинка, что становится особенно заметным при взгляде на рану: края равномерно сужаются к режущей кромке. Затем характерная длина. На коже жертвы нет кровоподтека от удара о рукоятку. Но есть и несколько существенных отличий. Повторяю, все мои выводы – лишь догадки. Ведь мы имеем дело с единичной колотой раной. И тем не менее у нашего клинка ромбовидная геометрия более выражена, центральная канавка миллиметра на два выше краев. Ширина же самого лезвия примерно на сантиметр уже, чем у ассегая. Судя по размерам, орудием убийства мог стать даже меч, но меня смущают характерные засечки с одной стороны раны. Как будто меч самодельный… или старый. Возможно, убийца его неравномерно заточил. Вот почему я написал в заключении «самодельное оружие» под вопросом. Чем больше я думаю обо всем этом, тем вероятнее мне кажется, что орудие убийства изготовили где-то на заднем дворе. Наспех заточили металлическую планку и отполировали снаружи, чтобы получить ромбовидное сечение. Правда, я не проводил спектроскопический анализ в связи с недостаточностью материала, но… в общем, вот такое у меня возникло подозрение.
– Профессор, он притащил орудие с собой. Так что оно не могло быть ни слишком длинным, ни слишком тяжелым.
– Могу сказать, что лезвие у него существенно длиннее двадцати сантиметров. Теперь давайте подумаем о местоположении раны и угле, под которым был нанесен удар. Коротким клинком, ножом или кинжалом, обычно бьют под углом сто тридцать градусов или больше; удар наносят сверху или снизу. Слут же ударили под гораздо меньшим углом, почти параллельным полу. Убийца нанес удар чуть сверху. Опять-таки похоже на меч. Следовательно, орудие убийства довольно длинное. Сантиметров сорок или больше. И все же оно не может быть очень тяжелым. Судя по ширине входного отверстия и учитывая вес стали, оно весит не больше килограмма…
Гриссел покачал головой:
– Профессор, но зачем ему трудиться – затачивать самодельный меч и тащить его с собой? Такое орудие нелегко спрятать от посторонних глаз… Разве что с его помощью хотят кого-то напугать. Но тот тип не хотел напугать Слут. Он хотел ее убить.
– С точки зрения судебно-медицинской экспертизы, Никита, убийца практически вне опасности. Он умно поступил. Никакой баллистики, никакого физического контакта с жертвой…
Гриссел задумался. Потом рассказал Пейджелу о последних открытиях экспертов, сделанных утром, и о том, что жертва, по их мнению, что-то сжимала в руке.
Пейджел хмыкнул и взял очки для чтения. Открыл папку и, не переставая говорить, принялся ее листать.
– Сомневаюсь. Самое странное для меня – отсутствие оборонительных ран, – задумчиво проговорил он. – Похоже, нападение застало ее врасплох. Он бил спереди. Но есть небольшая аномалия… Ага, вот… – Он покосился на Гриссела. – По-моему, он ничего у нее не отбирал. Зато я обратил внимание еще на одну деталь. На жертве не было трусов. Конечно, само по себе это ничего не значит. Был жаркий летний вечер, температура под тридцать градусов. Насколько я понимаю, иногда в такую жару женщинам неудобно носить нижнее белье. В конце концов, она была дома одна, сняла трусики, ну а бюстгальтер, возможно, снимать было труднее. Теперь, основываясь на новых данных, полученных экспертами, можно задаться вопросом: может быть, убийца снял с жертвы трусы уже после смерти? Или срезал их? Как тебе известно, такое случается нередко.