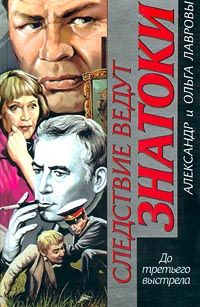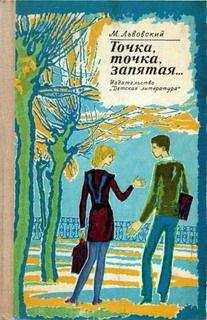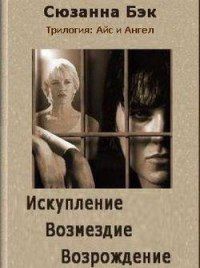Григорий Булыкин - Точка на черном
Мы анализировали эту позицию и пришли к выводу – уничтожит преступник такую вескую улику. Сожжет, например. Такой вывод – казалось бы, наиболее логичный… А парень попался именно на дубленке! Оказывается, он и ее взял «напрокат», у жены приятеля в другом городе. Обещал продать. Но вернул обратно – пожалел тысячу рублей из сорока тысяч награбленных. Совершенно по немыслимой кривой дубленка вновь вернулась в наш город, ее привезли уже на реальную продажу. А покупательница узнала ее по необычному цвету опушки…
Уточню; тем временем мы уже почти добрались до преступника по иной колее, но – затратив на это в десять раз больше сил. Вот что значит быть в плену у вполне логичной версии…
Я вспомнил эту историю с дубленкой, а вслед за этим неожиданно подумал о том, что нашим текущем версиям как раз недостает именно логики. И еще – связности. Мы анализируем составные звенья цепочки по отдельности. А у преступления есть прежде всего одна, конкретная, установка.
Итак, предположим следующее. Титаренко или человек, его пославший, должны были, по тем или иным мотивам, получить у некоего Ивана Аршаковича крупную сумму денег. Кто-то узнает об этом и решает получить всю сумму сам. С этой целью Титаренко заманивают в ловушку и начинают требовать от него документ, по которому можно получить деньги. По роковой случайности происходит встреча с милицией. Операция сорвана и совершено уже другое преступление.
Вопрос первый: зачем было в таком случае убивать Титаренко? На это может быть два объяснения. Одно из них – устранить свидетеля. Другое – обрубить ниточку, чтобы самим, пусть и без векселя, грубым путем, добыть деньги у Ивана Аршаковича. В таком случае нам нужно ждать еще одного ЧП… Но где! Точка на черном. Вопрос второй…
И тут тренькнул телефон:
– Вадим Сергеевич? Это Илюхин! По поводу задержки информации о прибытии поезда. Была причина. Очень, на мой взгляд, странная причина.
5. РАЗЛУЧНИЦА КЛАВА. (Илюхин)
– Мне сорок два… Сколько не работаю? Четыре месяца. Выгнала стерва директорша. Мол, им в образцовом кафе такие, как я, не нужны. Нет, не официанткой работала – уборщицей. Какая из меня официантка? Рожей не вышла. Дети? Сын. Сволочь порядочная, родила в семнадцать, растила, ночей не досыпала, а он, видишь ли, и знать меня не хочет. На автосервисе работает, ворюга румяный. Ну и что, что сын?! Нет, знать я его не хочу и жену его, была бы моя воля, удавила… Ну, выпила чуток. А что, нельзя? Водкой вон торгуют не для того, чтобы ею цветочки поливать… Ха-ха-ха… А как же, помню! Подошла женщина. Из себя приятная. Попросила, мол, не поможешь ли, подруга? Тут, в диспетчерской, гулящая одна работает. Моего мужа увести надумала. Мне, говорит, смотреть на нее невмоготу! Зайди к ней, подруга, говорит, зайди. Я тебе четвертной не пожалею. Зайди и скажи, что если ты, Клава, не уймешься, беда тебя ждет. Так уж просила, бедная, а в глазах слезы. Жалко мне ее стало. Жди, говорю, тут, сейчас я с этой тварюгой поговорю… А она говорит: постой со мной еще немного… Постояли мы минут пятнадцать. Я еще заметила, что какой-то поезд у моста прошел. А потом подвела меня к радиорубке, и я вошла. Сидит баба – пудов, наверное, на шесть. Старая. Я еще здорово удивилась. Но мужиков-то не поймешь, у них своя мерка и симпатия. Так что я захожу и говорю ей, мол, если ты, Клавка, не бросишь с другими мужиками знаться, то не миновать тебе беды! Как вы прошли сюда, кричит. Никакая я не Клавка. Милицию сейчас позову. А меня зло так и взяло: зови, зови милицию, кричу я в ответ. Пусть все знают, какая ты. Да у меня уже внуки! Это она мне, значит. Вон отсюдова. И встает, обходит барьерчик, да как даст мне под, извините, зад коленкой. Я так и вылетела. А она – за мной, и кричит, зовет милицию. Тут вокзальный сержант меня и перехватил. Ну, и сюда, в вытрезвитель…
Как ни опустилась женщина, мне было жаль ее. Почему-то я сразу поверил ей. И хотя дежурный по вытрезвителю Акимов свирепо хрипнул простуженным голосом, что она попадает сюда в пятый или шестой раз, острая жалость не проходила. По правде, сам эпизод с незнакомкой вызывал мою симпатию. Согласитесь, не всякий бы откликнулся на такую просьбу. А Анна Васильевна откликнулась – чисто по-бабьи, с сердцем. Конечно, и четвертной сыграл тут свою роль. Но взялась за «выяснение отношений» она искренне.
– А как выглядела женщина?
– Лет… тридцати пяти… сорока… А в чем одета, не помню, убей меня бог… Красивая, одним словом.
– Блондинка? Брюнетка?
– Не помню… Выпила я чуток…
– Ничего себе «чуток»! – Лейтенант Акимов хмыкнул.
– Да, чуток! Это она же меня и угостила…
– Где? – Мелькнула надежда, что незнакомку могут опознать в привокзальном кафе или ресторане.
– А прямо в зале ожидания, при ней имелось…
Через двадцать минут я беседовал с уборщицей первого зала Бенедиктовой. Безуспешно: не помнила она, чтобы с Анной Васильевной кто-то был. Хотя Анну Васильевну и видела.
С этими данными я выехал в управление.
6. «ЭТО БЫЛ РЕПОРТЕР!» (Чхеидзе. Москва)
Забавный старичок. Живая история. Видел Маяковского и Есенина. Брал интервью у Айседоры Дункан. Удивительно! И все же Титаренко куда интересней сейчас для меня. А о нем – везде и всюду лишь одна фраза: «Это был репортер!» И не поймешь – то ли с восхищением, то ли с сожалением.
– Почему «был», Исаак Симеонович?
Старичок пожимает острыми плечами. Достает с полки пухлую папку с газетными вырезками.
– Знаете, молодой человек, я многих газетчиков повидал на своем веку. И знаю, что большинству из нас отпущено от и до. Есть такая болезнь: исписался. Ей подвержены в общем-то все. И это нормально. Газета – труд ежедневный, выматывающий и кое в чем нудноватый. Рано или поздно наступает кризис. Нет газетчика, не пережившего кризис, так сказать, жанра. Но одни обладают вторым дыханием, а вторые так и угасают, переходя из лучших во второстепенные. Из второстепенных – в третьестепенные. В лучшем случае – в редакторы. В худшем и вовсе уходят из газеты. Но есть особая группа: это гении ежедневного труда. Тэсс, Стуруа, Стрельников… Песков – вам знакомы эти имена? Вот-вот… Титаренко обладал удивительно сочным пером и светлой головой. Трудолюбием вола и терпением верблюда. Вот вырезки. Какова производительность, выражаясь суконным языком?! Я следил за его выступлениями лет десять. Верил, что ему суждены и большое признание, и слава. Увы, лет пять назад он замолчал. Изредка то в одной газете, то в другой появлялись его приличные фельетоны. Но – не более чем приличные. Без стремительной, художественной легкости. Что-то произошло. Что? Не знаю.
– Может быть, «исписался»?
– Не верю… А с другой стороны… Впрочем, вот интересующие вас статьи. Это вы правильно сделали, что обратились ко мне. Я собрал, пожалуй, все его творчество в газете. Но почему он вас так интересует, молодой человек?
…Мы расстались со стариком, и я отправился в гостиницу читать вырезки. Не верилось, что это может дать нам какую-то ниточку в руки. И в то же время не выходил из головы срок «молчания» Титарен-ко, о котором с грустью поведал старый журналист.
К часам десяти вечера я прочитал последнюю статью. Всего их за эти пять-шесть лет было около дюжины. Невероятно мало, учитывая, что Титаренко жил эти пять лет на «вольных хлебах». На гонорары от них семью не прокормишь. Ну, несколько сценариев и книга… Это, конечно, давало Титаренко доход. Но не такой, чтобы купить за это же время прекрасный зимний дом в сорока километрах от Москвы, «Волгу», импортную мебель… Он был сплошной загадкой, Титаренко.
Прочитав последнюю статью, я подвел черту под своими подсчетами. Во-первых, специализировался Гелиодор Сергеевич исключительно по уголовным делам. Причем по тем, которые находятся в компетенции ОБХСС. Во-вторых, география его поездок была необычайно бедна – уменьшалась в пространстве между Каспийским и Черным морями. Это, конечно, могло объясниться пристрастием покойного к южному климату и кавказской экзотике. Но и игнорировать этот факт было нельзя. В-третьих, у меня уже были данные о том, что из последней командировки, состоявшейся четыре недели назад, Титаренко материал не привез, объяснив это тем, что «письмо не подтвердилось». Вместо этого он сдал дежурный репортаж о дельфинарии в соседнем городе.
Попытки обнаружить письмо, по которому выезжал Титаренко, не увенчались успехом. В отделе писем редакции оно было лишь зарегистрировано. Но на карточке стояло название города, а имени и адреса жалобщика не было.
И что самое важное: город, в который Титаренко выезжал, прочно фигурировал в редких статьях последнего года, напечатанных им в разных газетах…
Но все мои подсчеты и смутные интуитивные предположения не имели пока конкретного смысла. Они лишь настораживали и не более. Закрыв блокнот, я решил, было, лечь спать – ноги гудели, на душе было тяжело. Само сознание того, что где-то бродит убийца Ванечки Лунько, наполняло меня безысходной тоской. У меня не хватало сил избавиться от нее. А поэтому не хватало и сил даже на ненависть к убийце. По опыту я знал: такая ненависть необходима; именно она конкретизирует твое отношение к преступнику, к поединку с ним…