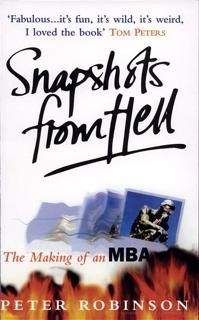Питер Робинсон - За гранью
— А теперь вон отсюда! — приказал он. — И чтобы я вас больше не видел в комнате для совещаний.
Мэгги перебралась в студию, в которой раньше работала Руфь. Лучи весеннего солнца и свежий воздух проникали в комнату через приоткрытое окно. Это была просторная комната, расположенная в задней половине дома и первоначально задуманная как третья спальня, но, хотя вид, открывающийся из окна, не сильно радовал глаз — замусоренный проезд, ведущий к въезду на задний двор, и расположенное позади него здание муниципалитета, — сама комната как нельзя лучше удовлетворяла всем ее потребностям. Наверху, в дополнение к трем комнатам, туалету и ванной, был еще и чердак, подняться куда можно было по приставной лестнице. Руфь, по ее словам, использовала его как хранилище. Мэгги ничего там не хранила, она даже никогда туда не поднималась, поскольку всегда избегала заброшенных помещений, пыльных, затянутых паутиной. Она страдала аллергией, и даже едва заметное присутствие пыли в воздухе вызывали обильные слезы и зуд.
Еще одно привлекало ее — находясь наверху, в задней части дома, она не отвлекалась на суету вокруг дома Пэйнов. Хилл-стрит открыли для движения транспорта, но дом тридцать пять был по-прежнему обнесен заградительной лентой, и какие-то люди продолжали входить и выходить оттуда с коробками и наполненными мешками. Она конечно же не могла совсем избавиться от мыслей по этому поводу, но старалась: не прочла газету, а радио настроила на станцию, передававшую классическую музыку с короткими перерывами на новости.
Мэгги готовилась иллюстрировать новое подарочное издание сказок братьев Гримм и сейчас трудилась над эскизами. Ее поразило, насколько страшными и отталкивающими были эти сказки, которые она перечитывала впервые. В детстве она воспринимала их спокойно, зло выглядело расплывчатым, нечетким, а теперь ужас и жестокость этих сказок казались ей чересчур реальными. Только что законченный набросок был к сказке «Румпельштильцхен» — об отвратительном карлике, который помог Анне прясть из соломы золотую нить в обмен на ее первенца. Собственная иллюстрация показалась ей слишком идеалистичной: печальная девушка, совсем еще ребенок, сидит за прялкой, а во мраке на заднем плане скорее угадываются, чем различаются, два горящих глаза и неясная тень карлика. Ей долго не удавалась иллюстрация, где злобный человечек с такой силой топнул в гневе ногой, что провалился по пояс, и, стараясь вытянуть себя за другую ногу, разорвал себя на две части. Лишенная фантазии жестокость, безразличие к царящей вокруг ненависти — этот прием используется в наши дни во многих фильмах, где спецэффекты применяют лишь для того, чтобы показать и усилить ужас, но жестокость всегда жестокость.
Теперь она работала над сказкой «Рапунцель», и на предварительных набросках была изображена юная девушка — другой первенец, отобранный у родителей, — она свешивала из окна башни замка, куда ее заточила колдунья, свои длинные белокурые волосы. Еще один счастливый конец: колдунью проглотил волк, выплюнув только ее костлявые руки и ноги — на съедение червям и жукам.
Сейчас Мэгги старалась изобразить толстую косу и ангельскую головку Рапунцель так, чтобы при взгляде на рисунок не возникало сомнений, что вес принца эта коса выдержит. И в этот момент зазвонил телефон.
Мэгги подняла трубку стоящего в студии телефонного аппарата:
— Да?
— Маргарет Форрест? — спросил женский голос. — Это Маргарет Форрест?
— Кто говорит?
— Так вы Маргарет? Меня зовут Лорейн Темпл. Мы с вами незнакомы.
— Что вы хотите?
— Это вы вчера утром позвонили в полицию, сообщив о скандале в доме на Хилл-стрит?
— Кто вы? Репортер?
— Ой, разве я вам не сказала? Да, я пишу для «Пост».
— Я не намерена с вами говорить.
— Не вешайте трубку! Маргарет, я стою рядом, на улице. Полиция не разрешает мне находиться возле вашего дома, поэтому скажите, не могли бы вы встретиться со мной, посидеть где-нибудь, выпить. Скоро время обеда. А недалеко отличный паб…
— Мне нечего сказать вам, мисс Темпл, поэтому и встречаться нам незачем.
— Но это же вы позвонили вчера рано утром, чтобы сообщить о криках в доме тридцать пять на Хилл-стрит, разве не так?
— Да, но…
— Значит, я обращаюсь именно к тому человеку, который мне нужен. А почему вы решили, что в доме скандал на бытовой почве?
— Простите, я вас не понимаю. Что вы имеете в виду?
— Вы услышали шум, верно? Крики? Звон разбитой посуды? Удары?
— Откуда вам все это известно?
— Я просто хочу узнать, что именно заставило вас подумать о том, что в доме скандал между супругами, а не, к примеру, схватка с проникшими в него преступниками или ворами-домушниками?
— Я не понимаю, к чему вы клоните.
— Ой, да послушайте же, Маргарет. Вас, наверное, называют Мэгги? Позвольте и мне звать вас Мэгги…
Мэгги ничего не ответила. Она не понимала, почему до сих пор не повесила трубку.
— Послушайте, Мэгги, — продолжала Лорейн, — ну дайте мне шанс. Я ведь должна зарабатывать себе на жизнь. Вы были подругой Люси Пэйн, верно? Вам известно что-нибудь о той стороне ее жизни, которая была скрыта от глаз посторонних?
— Я не желаю продолжать этот разговор, — сказала Мэгги и повесила трубку.
Но Лорейн Темпл задела в ее душе какую-то чувствительную струну, и Мэгги пожалела, что так обошлась с ней. Если поговорить с репортерами, подумала Мэгги, она поддержит Люси. Общественная симпатия была бы очень кстати, а с этим местная газета справится. Разумеется, все будет зависеть от того, какую позицию займет полиция. Раз уж Бэнкс поверил тому, что Мэгги рассказала ему о насилии в семье Пэйнов — а Люси, когда будет в состоянии, подтвердит это, — тогда в полиции поймут, что она сама жертва, и отпустят ее, как только она поправится.
Лорейн Темпл оказалась достаточно настойчивой особой и через несколько минут позвонила снова.
— Послушайте, Мэгги, — сказала она. — Ну что плохого в том, что вы ответите на вопросы?
— Ну хорошо, — согласилась Мэгги. — Я встречусь с вами, чтобы посидеть и выпить. Через десять минут. Я знаю паб, о котором вы говорили. На нем вывеска «Дровосек». В конце Хилл-стрит, верно?
— Верно. Так через десять минут? Буду ждать.
Мэгги повесила трубку. Нашла в «Желтых страницах» ближайший цветочный магазин и оформила заказ на доставку букета в палату Люси с письменным пожеланием скорейшего выздоровления.
Перед выходом она бросила последний быстрый взгляд на свой набросок и заметила в нем нечто необычное. Лицо Рапунцель не походило на стандартное личико кукольной принцессы, какой ее изображают в иллюстрациях к сказкам, это было особое, единственное в своем роде лицо, отражавшее художественную индивидуальность Мэгги. Более того, Рапунцель напоминала Клэр Тос — на ее лице неведомо как оказались даже два прыщика на подбородке. Нахмурившись, Мэгги взяла резинку, решительно стерла их и поспешила на встречу с Лорейн Темпл.
Бэнкс ненавидел больницы и все, что напоминало о них, эта ненависть зародилась в нем еще в детстве, когда в девятилетнем возрасте его лечили от тонзиллита. Он ненавидел больничный запах, цвет стен, эхо, звучащее в больничных коридорах, белые халаты врачей, униформу санитарок, ненавидел кровати, термометры, шприцы, стетоскопы, капельницы и разное странное оборудование, которое он видел через полуоткрытые двери. Ненавидел все.
Говоря по правде, он возненавидел больницы еще до того, как оказался там с тонзиллитом. Когда родился его брат Рой, Бэнксу было пять лет. Беременность матери протекала с осложнениями, о которых взрослые предпочитали говорить шепотом, и она провела там почти целый месяц. Врачи прописали матери постельный режим, не разрешали ей даже ненадолго вставать с кровати. Бэнкса на это время отправили жить к тете с дядей в Нортгемптон. Он так и не освоился в новой школе, остался чужаком, и ему нередко приходилось отбиваться от драчунов, которые никогда не нападали в одиночку.
Он помнил, как дядя привез его в больницу повидаться с мамой: был холодный зимний вечер, дядя поднял его к окну — слава Богу, палата мамы была на нижнем этаже, — и маленький Алан, смахнув со стекла иней шерстяной рукавичкой, увидел ее, опухшую, отечную, и помахал ей рукой. Ему стало страшно. Должно быть, это ужасное место, думал он, раз оттуда маму не отпускают к сыну и заставляют спать в комнате с какими-то странными людьми, а ведь она так плохо себя чувствует.
Тонзилэктомия, удаление миндалин, только утвердила его в нелюбви ко всему больничному, и даже теперь, когда он был уже взрослым человеком, больницы все еще внушали ему сильный страх. Он воспринимал их как последнее местопребывание человека, в котором кто-то держится молодцом, а кого-то отправляют туда умирать и где усилия, предпринятые из лучших побуждений с целью оказания помощи ближнему при помощи зондирования, прокалывания и разного рода эктомий, придуманных медицинской наукой, только откладывают на время неизбежное, наполняя последние дни земной жизни человека пытками, болью и страхом. Приходя в больницу, Бэнкс чувствовал себя Филипом Ларкином[15] и вслед за ним бормотал: «Восстал ли, взвыл ты — смерти наплевать…»