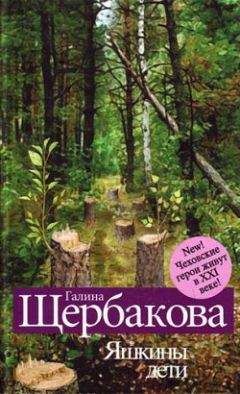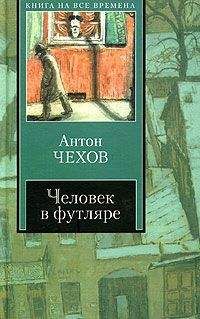Кунио Каминаси - Допрос безутешной вдовы
Ага! Стало быть, теперь от «ли – ри» переходим к «де – же»… Тоже неслабое испытание для наших еле ворочающихся языков… Родная японская фонетика требует от нас добавлять после «д» едва уловимый звук «з» – мы по-другому не можем, нас так мама с папой и детсад со школой учит. От этого презренные российские «деньги» в нашем исполнении звучат как «дзениги», не говоря уже об их гневном русском «ж» – низком, тяжелом и абсолютно невоспроизводимом, поскольку у нас, в японском, ничего похожего на этот грозный звук нет.
Ты всю жизнь трудись натужно,
Чтобы деньги получать!
«Чи фущю дзизюни торудзиси начюдзюно…» – пыжится передо мной широкоплечий сержант – Исимура, кажется… – из Немуро (тоже кажется…), и я вижу, как у него под черным ежиком от неимоверного интеллектуального напряжения багровеет кожа на затылке. А мои набухшие апрельскими вербными почками веки продолжают неумолимо смежаться, и вот еще секунду назад более или менее отчетливый силуэт крепкого в мышцах и воле и широкого в кости и душе Ганина вдруг начинает терять свои конкретные черты, и я перестаю различать на лучезарном лице доморощенного пиита его самоупоенные серые очи… Главное в этом деле – не умение произносить «де» вместо «дзе», главное – не уронить чугунную голову на хрупкий столик. «Уменье спать и видеть сны…» Это уже не Ганин и не Байрон, а другой… Помню еще: «Антон Павлович (он же, кстати, Палыч) Чехов, «Спать хочется»… Был бы чужой – давно убил бы, придушил – и дело с концом, как у этого-самого ихнего циничного Палыча, но тут все-таки Ганин, все-таки десять лет относительно крепкой мужской дружбы – авантюрной и бесшабашной, без всяких там «ты мне – я тебе», «человек человеку – друг, товарищ и медбрат» и «все братья – сестры», без сентиментальных соплей и панибратских излишеств. А так, был бы не свой – придушил бы пухлой перьевой подушкой, чтоб не докапывался со своей фонетикой, – и все, и никаких там хозяйственных Ларис с клейким рисом и лишних денег со скаредных небес…
И тут вдруг, как непременное напоминание о непреклонных, скупящихся на деньги и свободу небесах или, скорее, как непритязательная прелюдия к изощренной мести за черные мысли о ближнем и старые песни о главном, – удар в самое сердце: сперва – легкий интимный тычок под левый сосок, а за ним – долгое нервное поколачивание, как будто эта маленькая серебристая сволочь решила пробить всепроникающим электричеством и порожденным им могучим магнетизмом мою грудную клетку и в прямом смысле слова докопаться до щепетильного источника моих душевных невзгод и духовных исканий. И не поймешь сначала: то ли это волшебное избавление от бесконечной языковой пытки, то ли садистская утеха карманного тюремщика, не дающего бедному заключенному уснуть в течение нескольких дней. Одно только понятно наверняка: я правильно сделал, что перед началом урока отключил в мобильнике звонок и переставил его на вибратор, иначе сейчас Ганин услышал бы подаренную им же нехитрую мелодию о праздной прогулке какого-то длинношеего оболтуса по летней Москве из древнего черно-белого фильма эпохи Москвошвея-Моссельпрома, под которую бодренько взбегает по эскалатору метро их тогда еще безусый и вменяемый Никита Михалков.
Падавшая обреченной Пизанской башней верхняя часть моего тела по команде вибрирующего мобильника прекратила падение. Я извлек из нагрудного кармана трепыхающегося «оловянного солдатика», остановил его неуемную осеннюю дрожь, малость ожившими глазами извинился перед Ганиным и вышел в коридор. В нос тут же ударил сладко-затхлый запах дешевого табака, благо класс находится аккурат напротив площадки для курения, – неистребимый аромат безвозвратно ушедших времен наполеоновских планов и гагаринских амбиций. Я машинально пальцами правой руки зажал на мгновение ноздри, затем тут же улыбнулся своей наивности и наконец посмотрел на дисплей своего сотового: звонил Нисио, видимо, в целях проверки моего местонахождения. Мое майорское положение, в общем-то, позволяет мне в этот ранний час не сидеть среди зеленых сержантов и не повторять за Ганиным его лингвистическую ахинею, а не спеша попивать дурной – слабенький и невразумительный – «кофе по-американски» в какой-нибудь забегаловке подле станции метро «Макоманаи»› откуда обычно все мы добираемся до полицейской академии, если едем сюда не на машине, а на общественном транспорте.
Я перенабрал номер:
– Алло, Нисио-сан!
– Да, Такуя! Ты где? – прокашлял в трубку Нисио.
– Как где? В школе, конечно! – Еще спрашивает, пень старый!
– Ага, понятно! Тут у нас проблема одна возникла. Давай закругляйся там и подъезжай в управление!
– А как же урок? – Я не преминул отыграться перед Нисио за его педагогические извращения. – Я еще не все темы изучил. Ганин-сэнсэй ругаться будет!
– Не будет, не будет!… – хладнокровно парировал старик. – Я ему потом все объясню, он поймет, он понятливый. Давай руки в ноги – и приезжай скорей!
Я вернулся в класс, пригнувшись подобно бесстрашному, но осторожному ординарцу, доставляющему под шквальным огнем беспощадного противника важнейшее донесение своему генералу, пробрался к своему месту, сгреб в сумку нехитрое барахло, показал продолжающему извергать из себя поэтически-фонетические шедевры Ганину пальцами, что я по-быстрому должен топать отсюда, и выполз в коридор. Ловить такси в пустынном спальном районе полицейской академии – дело безнадежное, ждать автобуса днем в понедельник в начале одиннадцатого – тоже. Пришлось легкой рысцой потрусить в сторону метро, около которого я помедитировал пару минут на тему выбора способа дальнейшего передвижения и, зафиксировав в своем сознании скорую победу разума над чувствами, пошел в метро, оставляя за спиной длиннющую вереницу пустых такси.
Разум меня не подвел, и уже через полчаса я стоял перед Нисио, прикидывая в уме, в каком районе Саппоро я сейчас прел бы в пробке, если бы поехал на такси. Нисио с деланным удивлением оглядел меня с ног до головы, словно видел последний раз не в пятницу вечером, а года три назад, затем жестом указал на кресло подле своего стола и протянул мне тонкую картонную папку.
– На-ка, студент, почитай сначала вот это! – Шеф прищурился в моем направлении и пристально проследил за моими действиями по открыванию папки.
Шапка на первой странице гласила: «Заявление Игараси Тецуо, капитана паромного судна «Тохоку-мару-18» акционерного общества «Нихон-кай фери».
– Что это? – спросил я Нисио. Меня смутило определение жанра документа – «заявление». Обычно во всех делах по моей линии фигурирует слово «протокол».
– Читай-читай! – махнул рукой Нисио. – Я сам пока толком ничего не понимаю…
Я покорился воле рока и персонифицирующего его начальства и опустил все еще слипающиеся глаза на исписанный крупными иероглифами лист в клетку. Еще не вникнув в смысл первых фраз, я отметил про себя, что капитану Игараси, видимо, хорошо за пятьдесят, раз он исполнил свое заявление по старинке: не только на традиционной клетчатой бумаге, но еще и сверху вниз и справа налево. У нас давно уже никто вертикальными столбцами не пишет, хотя это классическое для японского языка оформление словоизлияния никто не отменял. Просто дурное влияние Запада уже много лет понуждает нас писать хоть и иероглифами, но горизонтально, как это делают американцы, русские и прочие счастливчики, которым не нужно зазубривать с первых школьных лет тысячи хитроумных значков-закорючек, а достаточно только запомнить, скажем, 26 или от силы 33 элементарные буквы. Слог капитана также звучал несколько архаично и, я бы сказал, витиевато для наших суровых быстротечных будней.
«Я, Игараси Тецуо, 59 лет, уроженец деревни Хоккай-мура, префектура Аомори, как капитан паромного судна «Тохоку-мару-18» акционерного общества открытого типа «Нихон-кай фери» (штаб-квартира – город Ниигата, префектура Ниигата) и, соответственно, как лицо, под ответственностью которого находится означенное выше судно, все имущество, находящееся на данном судне, а также личности 86 членов экипажа и 377 пассажиров, находившихся на данном судне в период плавания из порта Ниигата (остров Хонсю) в порт Отару (остров Хоккайдо) в период с 29 по 30 сентября 2002 г., считаю своей почетной гражданской обязанностью довести до сведения органов охраны правопорядка Японии следующую информацию. В понедельник, 30 сентября 2002 г., в 4 часа 34 минуты утра, когда вверенное мне паромное судно находилось в Японском море, в 18 милях к юго-западу от порта Отару (остров Хоккайдо), в мою каюту обратилась гражданка Ямада Марико, 64 лет, проживающая в городе Ниигата, с сообщением о том, что приблизительно в 4 часа 25 минут утра того же числа она стала свидетельницей того, как пассажирка судна, находящегося под моей ответственностью, – гражданка иностранного государства – сбросила с автомобильной палубы вверенного мне парома в море сверток большого размера…»