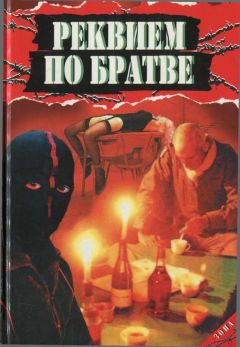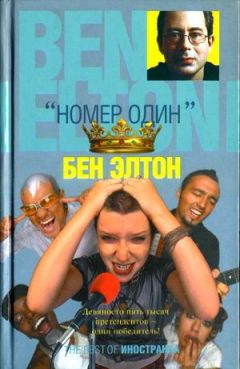Анатолий Афанасьев - Зона номер три
— Может, оно и к лучшему, — сказал он жене. — Погляди, что получилось. Кому достались плоды наших трудов, наших бдений и страстей? Для кого мы старались, надрывали жилы? Для Мустафы? Для Васьки Щупа? Для разных Лихомановых и Гусаковских? Но это же выродки, фашисты, дикари! Они не способны к созиданию. Мы, не жалея сил, расчищали авгиевы конюшни коммунизма, а они отобрали победу и на этом месте воздвигли убогую Зону! Мы мечтали воссоединиться со свободным, цивилизованным миром, а они опять тянут нас в преисподнюю, где из всех щелей смердит русским навозом. Да что же это такое, Марго?
— Это — сглаз, — пролепетала женщина, подлив водки из графина. — Выпей — и полегчает.
Он выпил, но ему не полегчало.
— Не сегодня-завтра меня убьют, — признался он. — И знаешь, даже как-то не жалко.
— Да что ты говоришь! — всплеснула ручками прекраснодушная Марго. — Да кто же это посмеет?! Тебя же все любят, Жорик, милый! Я иногда ревную — и очень горжусь тобой. Ты же кумир, Жорочка! Кумир нации. Кто посмеет поднять руку на святое?
— Убьют, убьют, — всхлипнул Хабалин. — Обязательно убьют. В прошлом году еще надо было удрать. Скрыться ото всей этой сволочи. Так ведь достанут, Марго. И в Европе достанут. Это же не люди. Это звери. Троцкого убили и меня убьют.
— При чем тут Троцкий?
— При том, корова ты деревенская, что от судьбы и в Мексике не спрячешься.
Марго не обиделась на грубость. Знала, муж ее любит. Он почти всегда ночевал дома, хотя нередко возвращался под утро. Но такая у него жизнь — в блеске, в славе, в богатстве — ничего не поделаешь. Красавицы к нему льнут, друзей и прихлебателей половина Москвы. Ото всех не убережешься. Она не была деревенской дурой, а была генеральская дочь. Когда выходила замуж, суровый отец — вечная ему память! — сурово предупреждал: вглядись в него хорошенько, глупышка, это же хорек. Отец ошибался: Жорик не был хорьком. Марго полюбила его за то, что он был ласковый, печальный и целеустремленный. Кто же виноват, если Бог дал ему талант очаровывать людские души. Все подруги (раньше было много, теперь мало) ей завидовали, и не было ни одной, кто не пытался бы затащить Жорика в постель. На это он был уступчивый. За пятнадцать лет, наверное, не было дня, чтобы он ей не изменил. Она быстро к этому привыкла, как привыкла к его капризам, истерикам и вечному брюзжанию. Она безропотно несла крест жены великого человека, возвеличенного страной. Когда на экране шли его передачи, улицы пустели, как во время футбольных матчей. Живой, как ртуть, неотразимый, быстрый, остроумный, дома он большей частью замыкался в себе, пугался сквозняков и хлопанья дверей, от малейшей простуды впадал в депрессию. С течением времени он стал ей больше сыном, чем мужем, но иногда, словно устыдясь, сотворял с ней любовные чудеса, хотя, в сущности, ей это было не нужно. Она рано постарела душой, похоронив отца и матушку, а теперь (уже давно) с унылым чувством ожидала, когда Господь наконец приберет и Жорика. Она знала, что муж ее любит, но так же, как и он, понимала, что его скоро убьют. Иначе быть не могло. Он слишком много воровал и сблизился с ужасными людьми, которые ничего не прощают. В молодости Жорик не был таким лихим, хотя всегда был тщеславным; но однажды, она не заметила — ночью или днем, в нем что-то сломалось, нарушилось его равновесие с миром, и он увидел все вокруг измененным взглядом. В перекошенном пространстве нормальные люди обернулись быдлом и чернью, и Жорик взирал на них будто с высокой горы, откуда они казались мелкими букашками. Она жалела его, как мать жалеет высыхающего от неведомой болезни сыночка. На той вершине, куда он поднялся, собралось много важных персон, презирающих быдло, и вот по истечении заповеданного срока они взялись сживать друг друга со света, потому что и там, на горе, им было слишком тесно всем вместе. В новой разборке у ее милого не было шансов уцелеть, хотя он ловок на язык, предприимчив и хитер, но на нем не было брони. В нем билось яркой точкой-мишенью сердце прежнего, давнего юноши, который когда-то шепнул ей: «Марго, у тебя ушки как ольховые сережки. Я боюсь на них дышать!»
— Никто тебя не тронет, любимый, — утешала она. — Они не посмеют. Пойдем лучше баиньки, утро вечера мудренее.
Усмиренный тихим, домашним голосом Хабалин сходил в душ и прилег рядом с ней. Отчего-то взбрело ему в голову порадовать напоследок жену, он повертелся немного и так и сяк, ничего путного не вышло: так и уснул, уткнувшись носом в теплый шершавый сосок.
Утром действовал машинально, словно продолжал спать: десять минут гимнастики, душ, завтрак, газета «Коммерсантъ». Марго опять завела шарманку про сглаз и про то, что надобно сходить в церкву, но Георгий Лукич даже не разозлился. Не нами сказано: волос долог, ум короток.
Уже в подъезде, выходя из лифта, вспомнил совет Лихоманова: посиди дома, не вылезай на люди. Вспомнил да поздно.
От почтовых ящиков, из темного провала выступил высокий, какой-то очень худой господин с бородатым лицом. Как в замедленной съемке, вынул руку из кармана и наставил на Хабалина пистолет с длинным дулом. При этом бородатое лицо кривилось в ледяной усмешке. За спиной Хабалина с мягким шорохом закрылся лифт. Его прошиб пот, но в роковой миг он не утратил присутствия духа.
— Плачу сто тысяч, — прогудел подсевшим голосом. — Только не стреляй!
Киллер скривился еще гаже, будто сосал лимон, и нажал курок. Первая пуля вошла Хабалину в грудь, вторая в спину, потому что он, разворотясь, побежал вверх по ступенькам. Он упал на бок и увидел облупленный кусок штукатурки. Ему не было больно, но было обидно. «Это все я сам виноват, — подумал он. — Надо было весной отвалить».
Третий, контрольный выстрел разнес ему череп; но он был все еще жив. Слышал, как убийца бормотал:
— Мразь какая! Сто тысяч! Сунь их себе в задницу.
Потом остался один на ступеньках и долго следил потухшими глазами, как душа его — розовое облачко — мечется, тыркается, ища лазейку в оконном
стекле.
Глава 4
Савелий еле прочухался. Спицу из сердца ему: вытащил фельдшер в тюремном лазарете, но после Савелий впал в тягостный, свинцовый сон, и его никак не могли добудиться. Спящего, в спецфургоне перевезли в 6-ю Градскую больницу, где сперва положили в коридоре, а попозже спустили в морг. Но дежурный прозектор его не принял, заявив, что это не их клиент: во-первых, без сопроводительных документов, во-вторых, дышит.
— Куда ж нам его? — огорчился дюжий санитар, только что по оплошности похмелившийся стопкой нашатыря. У него из глаз сыпались искры, как при электрическом замыкании.
Прозектор с сомнением поглядел на спящего Савелия.
— Может, примешь? — с надеждой спросил санитар, смекая, чем бы залить поскорее нашатырный жар. — Сам видишь, скоко он еще продышит? Ну день, ну два. Чего катать туда-сюда? Тяжеленный зараза!
— Ладно, — смилостивился прозектор, сочувствуя мучениям старого изувера. — Свали пока в подсобке. Там поглядим.
Савелий продрал глаза и ничего не увидел, кроме кромешной тьмы. Во тьме различил ряд предметов: ящик с известкой, швабры, скребки, рулон металлической сетки «Рабица», кули с рогожей и еще всякая рухлядь. Чувствовал он себя так, будто и не засыпал. Помнил все, что случилось, — разбитый телевизор, камера, шальная деваха со спицей. Потрогал сердце — бьется, гудит, колотит по ребрам. Кряхтя поднялся и вышел в коридор, освещенный люминесцентными лампами. Коридор был пуст и чист, как зимний первопуток. Савелий вгляделся в свое отражение в зеркальной стене — и поморщился. Вместо прежней одежи на нем был какой-то полотняный балахон до колен и солдатские кальсоны с завязками у щиколоток. В таком виде далеко не уйдешь.
Он толкнул ближайшую дверь, тяжелую, с железным засовом, и очутился в большой холодной зале, Уставленной громоздкими стеллажами, на которых в смиренных позах, с бирками на ногах расположились мертвые тела. Посредине залы на мраморном столе покоился труп молодого мужчины, наполовину распотрошенный, со вспоротой брюшиной и с отвалившейся набок головой. Все вместе — множество покойников, глубокая подземельная тишина, холод, призрачное освещение — производило грустное впечатление, как будто Савелий ненароком заглянул туда, куда при жизни человеку необязательно заглядывать. Тягость потустороннего обморока смягчало присутствие двух живых людей, примостившихся у маленького столика в дальнем углу и занятых обыденным житейским делом: один резал длинным ножом черную буханку, а второй, с глазами как у ночного кота, брезгливо нюхал стеклянную мензурку. Савелия они, увлеченные приготовлением трапезы, поначалу не заметили, и он услышал, как один (с глазами кота) уважительно сказал второму, нарезавшему хлеб:
— Нет, Исай Яковлевич, это точно не нашатырь!
На что тот раздраженно заметил:
— Говорю же, формалин. Пей, не бойся. Не помрешь.