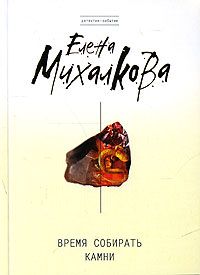Михаил Попов - Давай поговорим! Клетка. Собака — враг человека
2
Пора было засыпать могилу. Никита поднял ком земли и бросил вниз, тот с укромным грохотом разбился о крышку гроба. Рядом бесшумно осыпалась струйка песка, выпущенная рукой отчима. Это послужило сигналом копачам. Три лопаты одновременно впились в кучу серой небогатой земли. Начался искусственный обвал.
Никита развернулся и, ни на кого не глядя, пошел вон с кладбища. В этот яркий августовский день оно напоминало выставку цветов перед самым открытием.
Тихо, тепло, небо синее самого себя. Птахи в кронах древесных; невидимые, но старательные. Смерть делается как бы менее заметной.
Уверенно петляя по узкой тропинке меж могильными оградами, Никита быстро приближался к кладбищенским воротам. В тот момент, когда он решительно проходил под покосившейся перекладиной, Василий Андреевич Тетеркин, муж только что упокоенной Агафьи Тихоновны Добрыниной, с тихим воем повалился на земляной холмик и уткнулся в него лицом.
Сотрудницы районной библиотеки, сослуживицы Агафьи Тихоновны, поддерживавшие старика во время церемонии, молча стояли у него за спиной.
Никита быстро шел по плавно изгибающейся улочке в тихой липовой тени. Мимо двухэтажных домов — первый этаж оштукатурен и побелен, второй деревянный. Мимо вросшего в землю старинного здания, которое хотелось назвать лабазом.
Мимо маленького пустыря, напоминающего парад парусного флота из-за вечно развешанного здесь белья. Мимо церкви, загаженной и полуразрушенной, но с уже воздвигнутым на куполе крестом. Никита каждый раз, проходя мимо и прочитав на темной металлической табличке, как она называется, давал себе слово запомнить название, но так и не смог. Осталось в памяти только то, что она охраняется государством.
Может быть, это случалось потому, что сразу за церковью ему нужно было поворачивать направо. Там начинался старый уездный сад. Заброшенный, запущенный, но ни у одного начальника так и не поднялась рука вырубить выродившиеся груши и яблони. Непонятно, что тут можно было устроить взамен. Как все места, что не нужны взрослым, сад стал достоянием молодежи. Здесь теряли невинность все Калиновские девушки, здесь же происходили основные драки.
В глубине сада стояло одноэтажное здание из красного кирпича, до подоконника заросшее лопухами. Здание механических мастерских здешнего сельхозтехникума. Почему-то техникум бежал отсюда, бросив многочисленные железки. Сам собою образовался в сердце сада атлетический клуб, кузница бандитских кадров для всей среднерусской возвышенности. Был момент, когда местные администраторы, осознав размеры явления, попытались наложить запрет на культуристские увеселения, но встретили такое сопротивление, что наложили в штаны. С тем, что нельзя победить, приходится сосуществовать — в таком латинском стиле выразился мэр города и вскоре умер. Следующий на эту тему вообще предпочитал не говорить.
Никита толкнул входную дверь.
Притворявшийся спящим верзила в кресле у входа приоткрыл глаз, но не пошевелился.
Никита миновал предбанник и вошел в тренировочный зал.
Надо заметить, что Калиновские качки, захватив мехмастерские, не отнеслись пренебрежительно к брошенному здесь оборудованию, не стали вышвыривать его на свалку. Наоборот. Проявляя свойственную нашему народу смекалку, они почти все преданное техникумом железо превратили в нечто полезное для тела и времяпрепровождения.
Стоя в дверях, Никита наблюдал, как, поблескивая, вертелись коленчатые валы, неутомимо вращались втулки.
Он подошел к формовочному прессу, с помощью которого черноволосый, сосредоточенный богатырь выполнял движения столь замысловатые, что, существуй на свете общество охраны станков, оно имело бы все основания для вмешательства.
— Слышь, Сажа, — сказал Никита.
Сажа был главный здесь, в мастерских, и, стало быть, в саду, отчего сын библиотекарши дал ему свою кличку: Маркиз де Сад.
Упражняющийся неохотно оторвался от снаряда, промокнул махровыми напульсниками густые как липучка брови. Не торопясь осмотрел Никиту, словно вспоминая все, за что тот должен быть ему благодарен.
— Похоронил?
Никита кивнул.
— Уезжаешь?
Снова Никита кивнул.
— Скажи Рамизу, что я велел дать тебе денег.
— Не надо.
Сажа еще раз промокнул брови.
— Как хочешь, — равнодушно сказал бандит, после чего опять сцепился с прессом.
Никита покинул зал. Примерно таким же извилистым путем, которым давеча покинул кладбище. Трудно было что-то определить по его внешнему виду, но на самом деле он был удовлетворен беседою с начальством.
Теперь предстояла беседа неприятная.
Стол для поминок накрывали в саду, между дровяным сараем и двумя старыми вишнями. Возле него хлопотали Антонина Прохоровна и Марина Марковна, как и покойница, библиотекарши. О них сказать нечего, достаточно имени-отчества.
Когда Никита хлопнул калиткой, они замерли, даже перестали размахивать полотенцами в адрес мух и ос. Они сделали вид, что прикидывают, удачно ли расставлены закуски. Им не хотелось смотреть в сторону Агашиного сына. Если бы их спросили — почему, они долго бы не смогли ответить.
Никиту их мнение не интересовало. Он поднялся на крыльцо, открыл дверь на веранду, там еще две материны подружки имели место. Возле плиты. Их имена нет смысла называть, они не понадобятся далее в этом рассказе. Да и Никита не посмотрел в их сторону.
Вот и комната. Тихо, чисто, скучно. Тускло отсвечивают крашеные половицы, чуть ярче железная спинка кровати. В зеркале шифоньера виновато отражается пирамида подушек под кружевной накидкой такой неподвижности, будто она сделана из гипса.
Всех этих точных деталей не видел Никита Добрынин, потому что смотрел на человека. На Василия Андреевича Тетеркина. Лет шестидесяти пяти старичка. Лысоватого, с неуловимо обезьяньим выражением лица. Он стоял, покорно опустив руки и испуганно улыбаясь. В морщинах на лбу остались крошки земли. Он стоял так тихо, что, казалось, можно было услышать, как осыпается перхоть на его костюм. Костюм был впору, но как бы и великоват, не заслужен владельцем. На пиджаке вяло висели медали. Они раздражали пасынка больше всего. Василий Андреевич никогда на фронте не был, ему исполнилось восемнадцать после окончания войны.
Никитой отчим ощущался чем-то вроде воши. Полип-приживала, на старости своих бездарных годов заползший в семью, чтобы дожрать остаток болезненного века его матери. Похоронил свою визгливую старуху, похоронил мать, а теперь, небось, захочет, чтобы Агашин сынок начинал о нем заботиться.
Можно себе представить, какая внутри Никиты поднялась волна, когда обезьяньи губы проговорили:
— Вот так-то, сынок.
«Сынок» медленно осклабился, обнажая ровные, мощные зубы. Под бледной кожей щек промелькнули тени мгновенного румянца. Тренированные руки непроизвольно согнулись в локтях.
— Ключ, — сказал он.
— Что? — быстро и опасливо переспросил Василий Андреевич. И икнул.
— Ключ.
— А-а… — он стал сбивчиво рыться в карманах, таращась на «сынка» тусклыми глазками.
Ключ наконец явился. Отдавая его, Василий Андреевич хотел что-то сказать, но не успел, так и остался стоять с приоткрытым ртом, глядя, как Никита забирается под кровать, выволакивает на свет старинную деревянную укладку, распахивает ее и начинает нервно в ней рыться.
— Сынок…
Тряпки, куски бечевки, жестянки из-под халвы и леденцов, свечи, расшитые подушечки, сломанный будильник, открытки.
— Я что тебе скажу.
Связка писем, другая связка. Кому, от кого, Никита смотреть не стал, ибо обнаружил на дне в левом углу то, что было ему подсказано матерью — маленькую плоскую шкатулку. Металлическую, невзрачную, воткнул ключ. Он дал матери клятвенное обещание, что не поинтересуется ее содержанием до самой ее смерти. Не поинтересуется, если любит ее. Никита любил свою мать и уважал, поэтому обещание выполнил. Теперь он никому ничего не был должен.
— Погоди, — просипел Василий Андреевич, — погоди, я тебе объясню…
Шкатулка открылась, на дне, выстланном синим вытершимся бархатом, лежал листок бумаги. Никита прочитал, не вынимая листок из шкатулки: «Москва. Савелий Никитич Воронин».
— Москва, — прошептал Никита, поднимаясь с колен.
— Не Москва, сынок, не Москва, — бормотал отчим, схватившись обеими руками за грудь, — я все тебе объясню. Все не так. Не Савелий!
Не глядя в его сторону, Никита вышел в смежную комнату, звучно топая черными каблуками. Он вообще казался слишком крупным для этого дома, неумещающимся. Вышел и почти сразу вернулся с синей спортивного вида сумкой.
Увидев сумку на плече пасынка, Василий Андреевич убито опустился на табурет, продолжая хвататься за грудь и шепча свое прежнее, надоевшее: