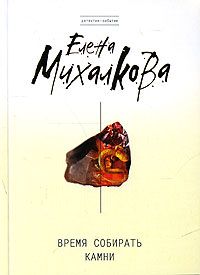Михаил Попов - Давай поговорим! Клетка. Собака — враг человека
— Они были друзья?
— Навряд ли. Ваш батюшка тогда работал следователем в карагандинском НКВД, или как это тогда называлось. Ваш отец некоторое время вел дело моего отца.
— Папу давно уволили.
— Я это знаю. Я многое теперь знаю о нем. Знаю я также, что в последнее время он тщательно скрывал факт службы в органах. Причем сам поверил в то, что не имеет никакого отношения к казахстанским лагерям, что прошел всю войну от звонка до звонка. Он, а не брат его Игнатий Петрович.
— Это болезнь?
— Разумеется, это не вполне нормально. Может быть, это искреннее раскаяние в содеянном прежде приняло такую форму.
— Наверное.
— Мой отец много о нем рассказывал. Первый следователь — это как первая любовь, он врезается в память на всю жизнь. Странно, что отец и мне сумел вживить в мозг образ лейтенанта Мухина. Я навсегда запомнил эту фамилию. И держал, оказывается, не в недрах памяти, а очень близко к поверхности.
— Он что, бил вашего папу?
— Не сильней, чем это было в среднем принято. И вот когда Леонтий Петрович появился у меня в редакции в военной форме, я узнал его. Он только чуть постарел, и звездочки разрослись. Узнал я его, конечно, не сразу и не на сто процентов. Чтобы разрешить свои сомнения, я попросил своих ребят сфотографировать его скрытой камерой. Получив фотографию, я бросился в Самару. Мой отец живет теперь там.
— И он узнал?
— Он-то узнал сразу. И без всяких сомнений. Несмотря на то, что прошло больше тридцати лет.
— И что он сказал?
— Что тут можно сказать? За валидол схватился. Просил меня, чтобы я не вздумал вредить этому человеку. Столько лет прошло. Я очень люблю своего отца. Он воспитывал меня один. У нас было редчайшее взаимопонимание. Мы были друзья и братья — помимо того, что отец и сын. И вот когда я посмотрел на него — с валидолом, старого, жалкого, раздавленного тяжестью заново всплывших воспоминаний, — мне захотелось что-то сделать для него. Для начала надобно разобраться, решил я. Разобраться в этом диковатом деле. Вернувшись в Москву, я направился к подполковнику Мухину и предложил ему сотрудничество, мне необходимо было на легальном основании постоянно находиться рядом с ним. И знаете, уже тогда, во время первого разговора у него дома, мне почудилась некоторая ненормальность в его поведении.
— Папа всегда был очень здоровым человеком.
— Не знаю, что на это ответить. Здоровый человек, присваивая чужую судьбу, вел бы себя по-другому, подделал бы какие-нибудь документы, чтоб надежнее раствориться в новой жизни. Впрочем, у Леонтия Петровича не было такой возможности, ведь живы были родственники. Да и прегрешения его навряд ли были столь уж кровавы. Да и присвоил он всего лишь воспоминания своего брата о войне. Наверняка на три четверти присочиненные. На мой взгляд, он явно вышел за границы нормы, но поскольку во всех прочих отношениях он вел себя нормально и заглянуть ему в душу никто не стремился, некому было что-нибудь заподозрить. Когда же он почувствовал, что кто-то хочет вернуть к жизни память о его брате, он разом потерял внутреннюю устойчивость. У меня не было к нему настоящей злости. Даже в самом начале. Я втянулся в расследование и стал искренним союзником Леонтия Петровича. А письмо… я написал эту цидулу только с одной целью: довести дело до конца. В письме это все и объяснено. Я вставлял лист в машинку, подчиняясь своему представлению о гармонии.
— Понятно, — бесцветно произнесла Таня.
— Кстати, знаете, почему я частично перешел на сторону Леонтия Петровича?
— Почему? — еще более бесцветно спросила девушка.
— Потому что понял, что он подвергается нападению, издевательской атаке со стороны человека очень плохого…
— Не будем говорить о моем брате, — неожиданная твердость прорезалась в голосе Тани.
— Вы его очень любили?
— И люблю.
— И что говорят врачи?
— Выживет, но останется инвалидом.
Таня встала, подошла к плите и занялась там мелкой кухонной деятельностью. Переставила чашки, погремела крышкой от кастрюли.
Петриченко решил сменить тему разговора.
— А этот парень, из-за которого начался весь сыр-бор…
— Он гомосексуалист.
— Да-да, и его…
— Зарезали.
Петриченко покивал.
— Зарезали, правильно. За долги.
Таня вздохнула.
— Вам что, и его жалко, святая душа?
— Ну как же…
— После того, как он продержал вас двое суток под замком? Вместе с матерью? После того, как довел вашего брата до реанимации?
Таня опять вздохнула.
— Если бы не вы, Евмен Исаевич, Васи бы уже не было в живых. А что с мамой было бы, и не знаю.
Журналист с видом человека, которого заслуженно, но чрезмерно хвалят, допил кофе.
— Не надо так говорить.
— Это же правда.
— Я должен был сообразить еще утром в понедельник, что мне необходимо мчаться сюда. Василий Леонтьевич двое суток провел без инъекции, фактически он был в коме. И если произошли необратимые изменения…
— Но вы же разыскивали папу.
— Да, пришлось поднять на ноги пол-Москвы. Но и тут я скорее искупал свою вину, чем совершают добрый поступок.
Широко открытые глаза Тани.
— Почему?
— Нельзя мне было оставлять его в тот вечер. Нужно было догадаться, что он не дождется меня и рано утром помчится на дачу выяснять отношения с сыном. А поскольку он весьма-весьма не в себе пребывал, то и стал добычей утренних бандюг.
Таня отошла от плиты и остановилась у окна с сухим букетом. Там она занялась своими плачущими помимо воли глазами.
Раздался звонок в калитку.
— Кто-то приехал, — сказал журналист.
Таня продолжала тихо размачивать в слезах свой носовой платок.
— Кто-то приехал, Таня. Не плачьте, что они подумают?
— У меня горе, вот я и плачу.
— Пойду впущу.
Приехали те, кого ждали, но не хотели видеть.
Анастасия Платоновна вошла на кухню, всем своим видом спрашивая: «Ну и что все это значит?» Следом появился Георгий Георгиевич, он имел немало неприятных приключений в этом доме и поэтому чувствовал себя неуютно.
Евмен Исаевич теребил ус в ожидании развития событий.
— Здравствуйте, — сказала Татьяна, моргая красными, но уже сухими глазами.
Анастасия Платоновна только кивнула в ответ. Обошла кухню, взглянула в окно. Всем стало ясно, с каким вкусом она одета и как хорошо держится.
— Нам уже прислали извещение. Официальное. Там сказано — месяц, но мы съедем раньше.
— Зачем же раньше? — немного про себя проговорила бывшая хозяйка дачи. — Послушайте, Таня, вы мне не покажете эту… ну, «клетку». Мы, собственно, ради этого и приехали сюда.
Таня на мгновение задержалась с ответом, и Анастасия Платоновна заговорила снова:
— Скажите, а это правда?
— Что именно?
— Что его нашли именно так вот, в клетке, а?
— Правда, — выступил на первый план журналист, — и нашел я. После того, как я разыскал Леонтия Петровича и отвез в больницу, потянуло меня сюда. Ворота были не заперты. Первый осмотр я провел небрежно, наспех, и никого не обнаружил. Тогда я к сторожке. Там находилась Таня с матерью. Обе связаны. И кляпы.
— Ну, кино, — тихо хмыкнул модельер.
— Их связал Роман, перед тем как…
— Понятно, понятно, — кивнула Анастасия Платоновна.
— Сначала я освободил их, растер конечности водкой, перенес на кухню, и тогда уж, в поисках лекарств, обнаружил… Пойдемте, покажу.
Все, кроме Тани, из кухни прошли к темной комнате с узким дверным проемом. С момента прошлого описания она превратилась в камеру с грубо сработанной решеткой.
— Такую нетрудно расшатать, — сказал Георгий Георгиевич с видом знатока, потрогав железные прутья.
— Не слишком легко, но в принципе можно. Но вы должны учесть две вещи: я поработал ломиком, чтобы вытащить пленника. И еще то должны учесть, что пленник этот был связан.
Анастасия Платоновна тоже потрогала железные путы своего прежнего мужа.
— Надо отдать должное Васечке, он незаурядный педагог. Он сумел заставить даже такого ученичка, как этот… усвоить кое-какие уроки. Надо понимать, что таким способом этот шалый бандит отомстил за пережитые унижения своему гуру. Успел усвоить из его бесед, что наибольшее удовлетворение приносит эстетически обставленная месть.
— Какая же тут эстетика, Насть, — поморщился Георгий Георгиевич, снова прикасаясь к раскуроченной решетке.
Анастасия Платоновна посмотрела на него с плохо скрываемым раздражением.
Журналист пожал толстыми плечами и пошевелил толстыми губами. Он чувствовал, что звезда подиума что-то недоговаривает, и страдал, не смея спросить, что именно.
— Кроме того — ревность, — сказала Анастасия Платоновна.
— Ревность?! — модельер брезгливо фыркнул.