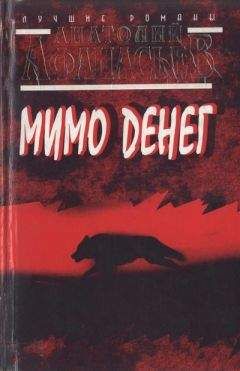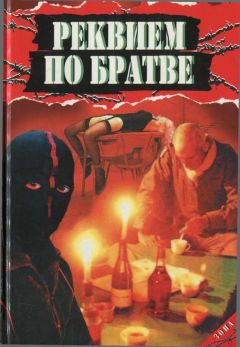Анатолий Афанасьев - Сошел с ума
— Это все лирика. Какие тебе нужны гарантии? О чем ты?
— Я должен быть уверен, что вы не убьете Полину.
Федоренко завертел шеей, будто вытягивая ее из грудной клетки, изображая ту степень изумления, за которой наступает коллапс.
— Боже мой, Ильич! Ты всерьез?
— Совершенно.
— Из-за этой похотливой сучки ты готов… Ильич, да ты все же мужик или нет?! Она же тебя кинула и еще кинет при первой возможности.
— Это наши маленькие семейные проблемы.
Федоренко недоверчиво хмыкнул, подошел к холодильнику и достал две жестянки пива. Одну отдал мне.
— Хорошо, говори конкретно. Чего хочешь?
— Напиши записку.
— Какую записку?
— Я продиктую.
Еще малость поторговались, но к тому времени как опустошили жестянки, записка была готова. В ней говорилось следующее: «Михаил Ильич, ничего не опасайся. Циклоп не в курсе. Как только узелок завяжется, пошлем его на х… Его давно пора выносить. Ф.»
— Не знаю, куда ты прилепишь эту гарантию, — задумчиво сказал Федоренко, — но ты хитрее, чем кажешься. И от тебя, Ильич, немного попахивает говнецом.
— Ты к себе почаще принюхивайся… Набирай номер.
Заново прослушав ее мелодичное «Але, але!», я поздоровался:
— Полюшка, это я.
— Миша? Не может быть!
То, что она узнала меня сразу, говорило о многом. Но радости в ее голосе не было, как не было и разочарования.
— Миша, ты где? Как ты меня нашел?
— Это не сложно. Тебя многие знают. Ты самая прелестная обманщица на свете.
— Ты в Москве?
— Намного ближе. Почти у твоих ног.
— Миша, не пугай меня!
Я самодовольно ухмыльнулся, шепнул внимательно слушающему Федоренко:
— Рада до безумия!
— Еще бы, — одними губами произнес он, — ты же вон какой красавец.
— Полинушка, — позвал я в трубку, — а где мой дорогой друг Эдичка? Он с тобой, надеюсь?
— Зачем он тебе, Миша? Ты приехал сводить счеты?
Быстро она взяла быка за рога.
— Какие счеты? Какие у меня с ним могут быть счеты? Я же для него давно труп. Какие могут быть счеты у трупа с преуспевающим, блестящим джентльменом?
Федоренко постучал кулаком по лбу. После паузы Полина сказала:
— Давай встретимся, Миша?
— За тем и приехал.
Сговорились, что через час она будет в холле гостиницы. Отель назывался «У Марианны» и располагался на тенистой улочке, неподалеку от площади Триад. Полина сказала:
— Миша, понимаю, ты не один, но лучше бы нам поговорить без посторонних.
— Не сомневайся. Передай Эдуарду, я зла на него не держу.
Она молча положила трубку.
— Теперь, — сказал Федоренко, — давай еще разок обговорим детали.
Он был собран, деловит.
— Чего обговаривать? Вы же будете рядом.
Они будут не только рядом, каждое слово запишется на магнитофон. Кнопка миниатюрного передатчика, работающего в автономном режиме, была вшита в обшлаг моего пиджака. Забавная шпионская подробность.
— Хорошо, если она захочет поехать куда-нибудь, что ты сделаешь?
— Предложу поужинать в отеле.
— Твоя главная задача?
— Показать ей кассету. Вот по этому «Грюндику».
— Если придет не одна?
— Может, выпьем? — сказал я. — Очень трудный экзамен.
Федоренко достал из холодильника бутылку какой-то розовой наливки.
— Это не тебе. Угостишь Полинушку.
— Такого уговора не было.
— Не бойся, не яд.
— Может, примешь сам стаканчик?
Федоренко долго смотрел на меня в упор. Я буркнул:
— Очень страшно.
— Ильич, ты все же чего-то недопонимаешь. Поверь, я тебе не враг. Но дело есть дело. Не вынуждай к жестким решениям… Как ты поступишь, если она придет с Трубецким?
— Заставлю его выпить всю вот эту бутылку.
— Ты настроен шутливо, это неплохо. Но учти, ставки в этой игре большие. Намного больше, чем ты думаешь.
Думал я не о ставках. Я думал о том, кто такая Полина? Женщина или чудовище? Я мало что про нее знал. Где она росла, кто ее родители? Не падала ли с лошади затылком об землю? Где-то читал, что женщину можно или любить, или знать про нее все. Третьего не дано. Я не хотел знать про Полину слишком много. Так, самую малость. Чтобы было о чем разговаривать в промежутках.
Без пяти восемь я спустился в холл. Просторное помещение со старинной деревянной конторкой, с высокими зашторенными окнами, с изумительной потолочной резьбой по мрамору. В Италии, вероятно, нет дома, который не напоминал бы музей.
Я уселся в кресло перед низким, красного дерева столиком. Закурил. На столике груда иллюстрированных журналов. Полистал один-два от скуки. Сплошь реклама, но все вполне пристойно. Ни одного полового акта. Отстали от нас.
Полина опоздала на двадцать минут. Пришла одна. На ней светлое длинное платье с глубоким вырезом на груди и продольными разрезами вдоль бедер. В движении платье оживало. Одним этим можно было любоваться всю жизнь. Я помнил ее темноволосой, теперь она была яркой блондинкой с чарующим взглядом вакханки. Невероятной истомы глаза. Нежный пухлый рот. Наша встреча не была затруднительной. Мы взялись за руки и опустились на кожаный диван. Руки у нее были теплые, а я отчего-то сразу замерз. Клерк за стойкой послал нам дружескую улыбку. Двое мужчин-постояльцев, заполняющих какие-то бумаги, женщина с высоким шиньоном на голове, потянувшаяся за ключами, — все смотрели на нас. На короткое мгновение время остановилось.
— Мишенька, родной, — прошептала Полина, раня мне сердце, — ты живой! Такая великая удача. Мы снова вместе.
Я проглотил комок в горле. Постепенно волнение улеглось, но никакие слова не шли с языка. Она это поняла.
— Милый, давай сразу. Ты веришь мне или нет?
— Верю.
— Я узнала обо всем от Трубецкого. Я ему не простила, он знает. Если нужны доказательства, ты их скоро получишь.
Не отводя от нее взгляда, я прижал два пальца к лацкану пиджака.
— Конечно, — кивнула она, — я так и думала. Расскажи, как себя чувствуешь?
— Нормально. Коммерческая психушка — все равно что санаторий. В принципе, никакой разницы — что на воле, что там. Даже, поверишь ли, отношения там более человеческие, что ли. Все стараются друг друга поддержать, подлечить…
Отчего-то горячась, я начал рассказывать про своих тамошних друзей, приватизатора и пахана, про новейшие методы лечения полоумных… В ее глазах, помилуй Бог, блестели слезы. Крепко сжав мою ладонь, спросила:
— У тебя отдельный номер?
— Да.
— Там кто-нибудь есть?
— Кому там быть, ты что?!
— Пойдем скорее…
Чуть не силком протащила мимо улыбающегося клерка, мимо роскошной, во всю стену картины «Искушение Христа», вверх по лестнице, устланной оранжевым ковром. Я снова был в ее власти и хотел того же, чего она. Еле попал ключом в замочную скважину. Постель разбирать не стали, повалились поверх покрывала. С громадным облегчением я швырнул пиджак через всю комнату. Ухватился руками за вырез ее платья, рванул, затрещала тонкая ткань. Полина не носила лифчик. Ее полные груди, золотистые, с торчащими сосками брызнули в глаза, как два солнца.
Уже сумерки заглянули в окно, когда мы опомнились, отдышались. Лежали, слипшись боками, как два остывающих пельменя.
— Микрофон в пиджаке, — сказал я. — Оттуда вряд ли слышно.
— На тебя вышел Циклоп?
— Да.
— Теперь я его должница… Сколько с тобой людей?
— Знаю одного Федоренко… А так-то много вокруг мелькает. Всех не перечтешь.
— Чего от тебя хотят?
— Чтобы заманил тебя домой, в Москву.
— Чем заманил? Договаривай.
— Давай лучше встанем.
Я первый сполз с кровати, сходил в душ. Поглядел на себя. Глаза красные, как у колдуна. Вернулся в комнату, достал кассету, вставил в гнездо. Нажал кнопку. Экран засветился, по солнечной поляне бежала счастливая девочка с сачком. Сюжет на три минуты. Полина повернулась на бок и молча досмотрела до конца. Холодно сообщила:
— Это моя дочь. Маринушка.
— Я знаю.
— Она у них?
Я взял с кровати подушку и бросил на пиджак.
— Так велели передать. Мне ее не показали. Я видел только пленку.
— Дай сигарету.
Я принес пепельницу на кровать. Задымили.
— Включи еще раз, — попросила Полина.
Снова по экрану побежала девочка, наткнулась на мужчину, взлетела в небо… У Полины лицо оставалось бесстрастным, сухим. Голубенькая жилка набухла на виске.
— Знаешь, Миша, я, наверное, очень плохая мать. Да что там, вообще никакая не мать. Но я соскучилась. Хватит. Придется съездить, забрать ее оттуда.
Подумав, я спросил:
— Ты уверена в этом?
— Не уверена, но надо. Бедная кроха!
Что такое «надо» в ее представлении, я догадывался: это то, что ей хочется. Если захочет луну с неба, то это и будет «надо».
Словно озябнув, натянула на себя покрывало. Я пристроился рядом. Стемнело, а мы все сидели, нахохлясь, как два вечерних голубка. Ночь в высоком окне была сиреневого цвета. Звуки музыки, доносящиеся откуда-то снизу, смешивались с утробным урчанием улицы, будто мимо дома, пофыркивая, проползало неведомое доисторическое ископаемое. Когда еще придется так посидеть, думал я. По-семейному.