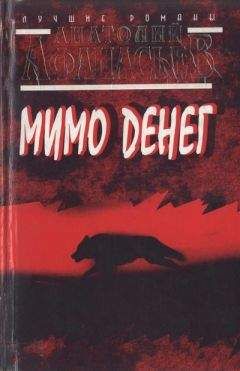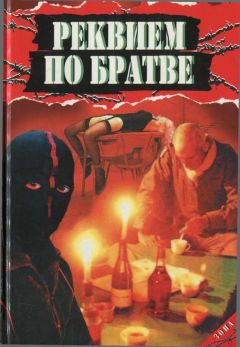Анатолий Афанасьев - Сошел с ума
Прилетели в лето. С трапа самолета в обнимку с майором шагнули прямо в паровой котел. Больше ничего не помню вплоть до гостиницы. Постыдный алкогольный провал памяти. Проснулся на роскошной кровати, валяюсь поверх покрывала одетый — в брюках и пуловере. Через открытую дверь вижу: в гостиной за ореховым столиком Полина беседует с каким-то незнакомым мужчиной. Спаленка, с высоким потолком и хрустальной люстрой, меблированная под старинный будуар, несколько раз плавно качнулась и укрепилась в стоячем положении. Я сразу догадался, что наступил вечер: лампы горели.
Полина — в полупрозрачном то ли пеньюаре, то ли платье, свет падает на лицо — оживлена, глаза блистают. Мужчина в вечернем стального цвета костюме, темноволосый, с четким, красивым лицом. По виду лет около сорока Тихие голоса, слов не разобрать. Но по тому, как собеседники склоняются друг к другу, еще по каким-то неуловимым признакам заметно, что они давно знакомы и беседа для них не обременительна.
Мне не хотелось подавать признаки жизни, да и не был я уверен, что это удастся. Но выпить пива или хотя бы воды тянуло нестерпимо. Собрав волю в кулак, я тихонько покашлял. На этот звук Полина отозвалась, как на зов свирели. Вскинулась, потянулась. Одним мягким движением очутилась в спальне и опустилась в ногах. Блаженный аромат родных духов.
— Милый, ты как?! — и в голосе тревога, и ничего более.
— Пить хочу!
Помчалась куда-то, мгновенно вернулась — о, Господи! — с банкой пива. Пальчиком ловко отколупнула крышку, протянула мне. Хлебал, захлебывался — на грудь под пуловер протекла ледяная влага. В мозгах после короткого замыкания — просветлело.
— Ну? Легче?!
— Я думаю… этот майор… Он чего-то подмешал. Выпили-то ерунду…
— Конечно, конечно… Литра два. Не больше. Бедный мальчик!
— Мы где?
— В Париже, милый. Где же еще?
— А это кто?
Мужчина, оставшийся за столиком и с понимающей улыбкой наблюдавший за нами, дружески поднял руку, сжатую в кулак. Полина озадаченно хмыкнула:
— Ну что ж, давайте, вас познакомлю. Это Эдуард Всеволодович Трубецкой. Мой самый верный друг и компаньон.
— Ага, — чему-то я обрадовался. — Значит, это вас половина Москвы разыскивает? Я имею в виду криминальную половину.
Мужчина подошел к кровати. Высокий, соразмерно сложенный. Приветливый взгляд темных глаз. Протянул руку, и я ее, лежа, пожал. Сухая, энергичная ладонь. Странным образом я сразу почувствовал к нему расположение, хотя ничего о нем не знал, кроме того, что он, вероятно, крупный бандит, авторитет, кидала.
— Должен вас поблагодарить, — сказал он приятным негромким голосом.
— За что?
— За Полюшку. Она все рассказала. Если бы не ваша помощь…
— Не преувеличивайте. Нас просто вместе загнали в угол. Вот мы и удрали, как два зайца.
Они переглянулись: видно, мне удалось изречь что-то сверхидиотское.
— Михаил Ильич, тому, что я скажу, вам придется поверить пока на слово. Я ваш должник, но еще не было такого долга, который я не заплатил. Верно, Полюшка?
— Верно, Эдичка!
С трудом я слез с кровати и, извинясь, отправился приводить себя в порядок. В ванной со множеством зеркал, сверкающей чистотой, бледно-розовой, как кожа младенца, я разделся, побрился и принял душ. То, что я в Париже, я еще толком не ощутил, но то, что не дома, как-то угнетало. После доброго десятка лет безвылазного сидения в московской квартире очутиться вдруг за тридевять земель, при загадочных обстоятельствах, было серьезным испытанием, полагаю, для любой психики, а для моей — особенно. Как-то с течением лет я уж вознамерился помереть, не выходя из дома. Тем более, обстановка на родине не обещала, что процесс умирания затянется. Ощущение близкой, неизбежной и принудительной кончины стало для большинства наших сограждан неким постоянным фоном бытия, не скажу, чтобы чересчур дискомфортным, ибо рок обернулся переполненными прилавками и сыто, ритуально кривляющимися лупоглазыми юношами и полуголыми девицами на телеэкране. Вдобавок многие мои интеллигентные знакомые — особенно гуманитарии — убедили себя в том, что трагедия, случившаяся со страной в конце тысячелетия, есть не что иное, как торжество исторической справедливости. Такого крайнего взгляда я не разделял, ибо не склонен был, как большинство русских умников, к достоевщине и некромании. Но все же действительно было что-то зловеще мистическое в том, с каким веселым азартом вчера еще великий народ под водительством хриповатых вождей, нарекших себя на этот раз демократами-рыночниками, без всякого видимого сопротивления отдал себя на заклание. И первой пример истерической самоликвидации (в духовном смысле) продемонстрировала так называемая творческая интеллигенция. Когда вижу, с каким пафосом и страстью вчерашние властители дум лижут задницу новым тиранам, рассудок теряет способность к рассуждению…
Парочка — Полина и Эдуард Всеволодович — поджидали меня за накрытым столом: пиво, коньяк, соки, фрукты и шоколад.
— План такой, — Трубецкой потер ладони профессорским жестом. — Слегка закусим, потом — прогулка и ужин… Михаил Ильич, возражения есть? Возражения не принимаются.
— А куда прогулка?
— По магазинам, — ответила Полина. — Надо тебя, Миша, поприличнее одеть. Все-таки ты мой муж, не забывай об этом.
— Кстати, — подхватил Трубецкой. — Вот за это и выпьем. С прибытием в вечный город, Михаил Ильич.
— Вечный город — это Рим, — возразил я, поднимая бокал с желтым ядом.
Чокнулись, выпили. Закурили. Трубецкой смотрел на меня прищурясь, словно собираясь что-то важное спросить, но не решаясь.
— Спрашивайте, — поощрил я. — У меня тоже есть несколько вопросов.
— Да что уж там, конечно, спрошу. Вы какую кухню предпочитаете, Михаил Ильич?
Он с самого начала слегка подтрунивал надо мной, но не зло. Видимо, его развлекало, что прекрасная любовница, наперсница и партнерша приволокла с родины какого-то пожилого недотепу. Особого значения этому обыденному факту он, разумеется, не придавал. Та сумасшедшая жизнь, которую они себе устроили, допускала всевозможные отклонения от общечеловеческой этики. Полина, Трубецкой и им подобные жили по собственным правилам, даже точнее, не по правилам, а по прейскуранту, в котором все имело свою цену. Женщина как товар и любовь как физиологический обряд значились в этом прейскуранте где-то между акциями МММ и поездкой на Багамские острова.
— Вы про какую кухню спрашиваете, — уточнил я. — Про гарнитур или про то, что пожрать?
— Скорее, второе. Видите ли, Михаил Ильич, я хочу, чтобы первый вечер в Париже вам запомнился. А выбор тут большой.
Вечер больше всего запомнился мне тем, как покупали костюм. Меня усадили в мягкое кресло в модном салоне на улице Роже, угостили кофе и коньяком, а трое или четверо молоденьких, гибких, как глисты, педиков в течение получаса демонстрировали на небольшом подиуме самые сногсшибательные и куртуазные наряды. Распоряжалась представлением пожилая дама, сочная, как перезрелый абрикос, и посылающая мне столь откровенные взгляды, что бросало в жар. Полина щебетала по-французски (я уже знал, что она владеет тремя языками), Трубецкой, как бы ото всего отстранясь, посасывал коньячный коктейль. Немного покочевряжась, я остановил свой выбор на костюме кремового цвета, с распашными брюками и двубортным пиджаком, именно таком, в каких у нас в Москве отстреливают банкиров и телезвезд. Полина одобрила мой вкус, но на этом спектакль не закончился. Пришлось перемерить плюс к костюму с десяток плащей, множество кожаных курток и спортивных костюмов. Кроме того, Полина накидала гору сорочек и нательного белья. В целом новый гардероб обошелся в сотни тысяч франков, и я прикинул, что при разумной носке я обеспечил одеждой несколько поколений потомков.
Трубецкой, улыбаясь, выписал чек, и мы покинули гостеприимный салон, причем в кулаке у меня была зажата амурная записка хозяйки. Записку я передал Полине, и она вслух перевела: «Уважаемый месье! Есть в Париже тайны, которые ведомы только француженке. Будет на то желание, почла бы за честь познакомить вас с ними. Ваша Стелла Блюаи!»
— Я не ревную, — холодно произнесла Полина, — но, по-моему, здесь попахивает развратом.
Трубецкой не дал мне долго погордиться.
— По всей Европе нынче на русских олухов смотрят как на дойных коров, — пояснил он. — Чистят изрядно, но относятся свысока. Раньше презирали за бедность, теперь — за неумение считать деньги.
В китайском ресторане на Монмартре, когда я не без удовольствия оглядывал себя в зеркале — кремовый костюм, бежевая, с люрексом рубашка, элегантная бабочка, — меня настигла страшная мысль: кот Фараон! Он остался один в запертой квартире. В панике убегая, я забыл о закадычном друге. Вот она как проявилась — вся тайная подлость моей натуры. Какие муки ожидают самовлюбленного усатого бедолагу, прежде чем он околеет от голода и жажды!..