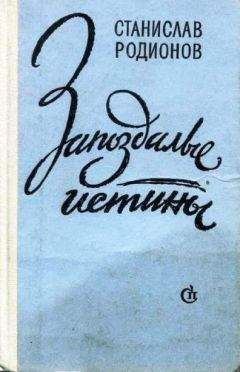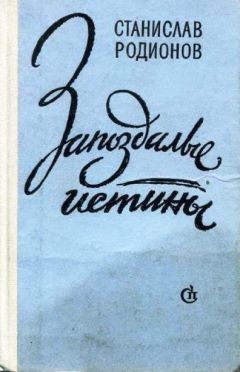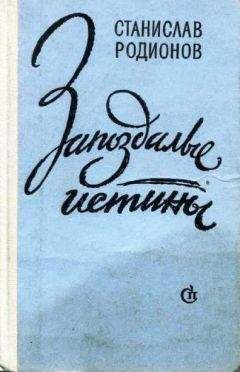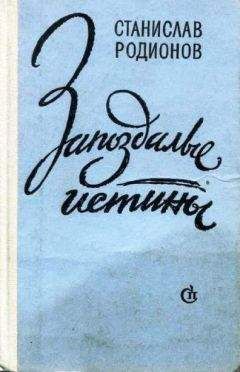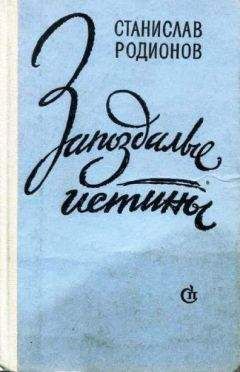Станислав Родионов - Мышиное счастье
— А стиральный порошок? — перебил инспектор.
— И включаю. Потом слегка заправлю бутылочкой водочки. Выходит напиток, под названием «косорыловка».
— Какие у вас отношения с механиком? — начал подходить к делу Рябинин.
— Чай, он не баба, чтобы отношения, — усмехнулся водитель.
— А с директором?
— Я встречаю его во дворе раз в месяц и слов без буквы «с» не говорю.
— То есть?
— Слушаю-с, готов-с, так точно-с.
Рябинину показалось, что инспектор от нетерпения присвистнул: Петельникова тянуло к главному, к разговору о сути преступления, к механику, которого почему-то не было на заводе. Но следователь к этому главному шёл исподволь, словно подкрадывался. И всё-таки, давимый молчаливой силой инспектора, Рябинин сказал прямо:
— Теперь рассказывайте про хлеб.
— Про какой хлеб?
— Начните с горелого.
— Я ж говорил… Во дворе хлеб горелый рассыпан. Дай, думаю, соберу да кому-нибудь продам на бутылку пива…
— А зачем понесли его в подвал?
— Спрятать пока.
— А в подвале лежал другой хлеб, хороший.
— Я и сам встал обалдевши. Смотрю, ё-моё — гора хлебца навалом. Только начал высыпать, а этот зубр меня клешнями поддел под селезёнку.
Рябинин встал, подошёл к сейфу, вытащил оттуда чёрную буханку и положил на стол, на чистый лист бумаги. Хлеб замерцал антрацитным блеском. Башаев прищурился раздражённо, точно следователь сделал что-то неприятное или незаконное.
— Этот хлеб сгорел не в электропечи, — сказал Рябинин.
— А где же?
— Он обожжён паяльной лампой.
— Мне это без разницы.
— У вас нашли паяльную лампу…
— По работе нужно.
— На верстаке нашли корки хлеба…
— Ел.
— На прошлом допросе вы сказали, что хлеба не едите…
— Когда ем, когда не ем.
— Там же нашли сухие корки в копоти…
— А может, я сухарика захотел? — разозлился Башаев. — Могу я сделать себе сухарик, а?
— Отвечайте не вопросом, а определённо.
— Определённо: захотел сухарик и спёк путём паяльной лампы.
— Так и запишем в протокол — для смеха.
— Я смеху не боюсь.
Петельников вроде бы ничего не сделал, но Башаев повернул к нему голову с угодливой готовностью. Инспектор тяжело и предвещающе вздохнул:
— Вот что, мужик. Ты здесь туфту гнал про свою сермяжную жизнь, с чего, мол, и начал керосинить. А ведь ты «краплёный», «сквозняком» в молодости согрешил ради трёх кусков «шуршиков». А?
— Не понимаю я вас, — неуверенно отозвался водитель.
— Что, жаргон забыл?
— Дела давно минувших дней…
— Конечно, минувших. Но не решил ли ты, выражаясь забытым тобой жаргоном, «слепить нам горбатого», а выражаясь культурнее, «заправить фуфель», что в переводе означает «мазать чернуху» или «гнать туфту»? А?
— Чего?
— Да ни один вор «в законе» не будет темнить, когда взяли с поличным!
— А, так-растак! — опять разозлился Башаев. — Пиши! В подвале хлеб беру на себя. Пиши: хотел вывезти его и забодать за полсотни любителям-животноводам.
— А первая машина? — вновь вступил в разговор следователь.
— Пиши, и тую беру. Две машины, и с концом.
— Где взяли хлеб, кому продавали, как выехали с завода, кто соучастник?
— Э-э, ребята… Тут я помру, а никого не выдам. Один пойду. Не обидно ль? Сам хлеб не жру, а за него страдаю.
Буханка чёрного хлеба стоит четырнадцать копеек. А это значит: удобрить землю, вспахать, подготовить семена, пробороновать, посеять, вырастить колос, сжать и обмолотить, зерно доставить на элеватор, хранить, с элеватора привезти на мельницу, смолоть, муку привезти на хлебозавод, проделать сложный цикл и выпечь хлеб, готовый хлеб доставить в булочную… Это человеческая сила и время, бензин, электроэнергия, транспорт, машины… И четырнадцать копеек?
Да мне ни один экономист, ни один социолог не докажет, что буханка хлеба должна так мизерно стоить! Пирожное, сладкая фитюлька для баловства оценивается в двадцать две копейки. А вот буханка, которой можно накормить несколько человек, — поди же.
В небольшой комнате, обставленной самым необходимым, двое смотрели телевизор. Она сидела на табуретке, то и дело трогая руками бигуди, словно боялась, что они осыпятся с головы. Он был в выцветшем тренировочном костюме и с газетой на коленях — старое деревянное кресло, собранное из тонких реечек, поскрипывало под ним часто и старомодно.
Экран телевизора иногда рассекала белая прожекторная полоса — тогда она двумя руками ощупывала бигуди, он морщился, а кресло скрипело особенно тягуче.
— Ань, если муж не ест женин обед, то что?
— Пересолен.
Где-то на кухне лилась вода — её однообразный звук вплетался в бормотанье телевизора, как ненавязчивое музыкальное сопровождение.
— Ань, если жена купила мужу, скажем, ботинки, а он отворачивается…
— От жены отворачивается?
— От ботинок.
— Не его размер.
На кухне стукнула форточка — телевизор отозвался на этот стук своей прожекторной полосой. Он поморщился, она ладонями поправила бигуди.
— Ань, а если от мужа пахнет… э-э… ликёрами?
— Значит, выпил.
— Знаю, что выпил. Почему пьёт эти самые ликёры?
— Водку не любит.
Кресло скрипнуло, как скелет костями. Опять звякнула некрепким стеклом форточка. Вода лилась ровным и вечным тоном. Телевизор о чём-то нашёптывал негромко, неубедительно.
— Ань, а если от мужа пахнет французскими духами?
— Значит, хороший муж.
— Как так?
— Купил жене французские духи и положил в карман. Вот ты мне французские духи не покупаешь…
— Этот хороший муж заявляет жене, что человек есть дитя наслаждений.
— Какой он милый…
— Ань, ты хороший технолог, но в вопросах мужской психологии, извини, не тянешь.
— Может быть, Юра, не тяну. Но если бы ты… однажды… пришёл домой… от тебя пахло бы ликёром и французскими духами… и заявил бы, что любишь наслаждения…
— То что бы? — он даже отпустил взглядом экран.
— Не знаю, Юра. Но что-то бы произошло.
— С кем?
— С тобой, Юра.
— Со мной, Аня, подобного никогда не произойдёт.
— Я знаю, — вздохнула она.
— Чай будем пить?
— Можно и попить.
— Нет, на ночь не стоит, — решил он.
— Ну не будем…
Неожиданный звонок, сильный и долгий, заглушил урчание воды, стук форточки, скрип кресла и говорок телевизора. Мужчина неспешно встал, выключил у телевизора звук и недовольно буркнул:
— Кого это несёт…
— Наверное, сосед.
Пока он ходил открывать, она вытащила из кармана халата косынку и покрыла голову, спрятав металл бигудей. По молчанию в передней, по какой-то тяжести, которая потекла вдруг оттуда, она поняла, что это не сосед…
— А я к вам в гости, — улыбнулся Рябинин.
— Поздновато, но я ждал, — признался директор, принимая мокрый плащ.
— Почему ждали?
— Предчувствовал…
— Садитесь, пожалуйста, — она вскочила и придвинула к столу единственное мягкое креслице.
Рябинин знал, что поздновато — десять часов. После этого подвала, забитого хлебом, после задержания Башаева и допроса Рябинину казалось, что его нервы слышимо заныли, как комариная стая над ухом. Нужно их утолить, эти надрывные нервы. Он ещё раз глянул на руку — десять часов пять минут. Закон разрешал поздние допросы только в неотложном случае. Когда совершалось тяжкое преступление, когда совершено убийство. А уничтожение хлеба — не тяжкое преступление?
Рябинин огляделся… Двухкомнатная квартира. Пол, покрытый линолеумом. Выжженные солнцем обои. Простенькая мебель. Шкаф, широкий, как железнодорожный контейнер. Канцелярская лампа на столе. Телевизор чуть не первого выпуска.
Тогда Рябинин пристальнее вгляделся в директора…
Какой-то обвислый тренировочный костюм. Широченные шлёпанцы, как снегоходы. Сырое, тяжёлое лицо. Откровенно сонный взгляд. И лысина, блестевшая от канцелярской лампы.
— Юрий Никифорович, а что у вас такая старомодная мебель? — улыбнулся следователь.
— Меня устраивает.
— Его устраивает, — подтвердила жена.
— А что вы не сдерёте линолеум и не настелете паркет?
— Какая разница?
— Ему всё равно, — опять подтвердила жена.
— Обои-то выцвели, как писчая бумага стали…
— Собираюсь переклеить.
— Он собирался.
— А почему не купите телевизор с большим экраном? Ничего же не видно.
— Нам видно.
— Вы в очках, поэтому вам и не видно, — объяснила жена.
— А что это журчит?
— Кран течёт, — буркнул директор. — Почему не чините?
— Мне не мешает.
— Ему не мешает.
— Извините, вы пришли по делу? — раздражаясь, спросил директор.
Но Рябинину сперва хотелось понять… Мужчина, а это значит — сильный, энергичный и умный. Сорок лет ему, самая зрелая пора. Высшее образование — у человека образование, выше которого некуда. Здоров, обеспечен, уважаем… Почему же он ничего не делает ни на работе, ни дома?