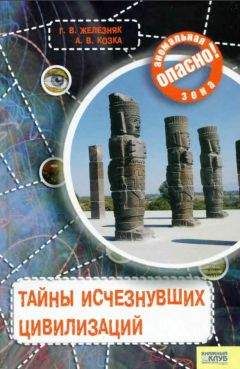Загадка золотого кинжала (сборник) - Лондон Джек
– Праведность тут не при чем, – горько ответил францисканец. – По меньшей мере, Человеку может быть дозволено продвинуться в своем Искусстве или мысли. Но если Мать наша Церковь увидит или услышит, что он двигается куда бы то ни было, что она скажет? «Нет!» Всегда «Нет!».
– Но если маленькие звери Варрона невидимы, – продолжал Рогир Салернский допытываться у Фомы, – как же нам найти лекарства?
– При помощи эксперимента! – Францисканец вдруг обернулся к ним. – Разума и эксперимента. Один теряет смысл без другого. Но Мать наша Церковь…
– О да! – Рогир из Салерно бросился на новую приманку, как голодная щука. – Послушайте, господа мои. Ее епископы – наши Князья – усыпают наши итальянские дороги трупами, которые они производят для своего удовольствия или из гневливости. Прекрасные трупы! Но если я – если мы, врачи, – осмелимся хотя бы приподнять кожу, чтобы взглянуть на ткань Господню под ней, что скажет Мать наша Церковь? «Святотатство! Возитесь со своими свиньями и собаками или сгорите!»
– И не только Мать наша Церковь! – поддержал его францисканец. – Для нас закрыты все пути – закрыты словами некоего человека, мертвого уже тысячи лет, словами, которые считаются окончательной истиной. Кто такой любой из сынов Адама, чтобы одно его утверждение могло запереть двери к истине? Я бы не сделал исключения даже для Петра Перегрина [89], моего великого учителя.
– И я бы не сделал для Павла Эгинского! [90] – закричал Рогир из Салерно. – Послушайте, господа мои! Вот наглядный пример. Апулей [91] свидетельствует, что ежели человек на голодный желудок употребит в пищу сок ядовитого лютика – мы зовем его «sceleratus», что значит «злодейский», – тут он снисходительно кивнул Джону, – душа покинет его тело, смеясь. Вот это уже ложь более опасная, нежели правда, поскольку в ней содержится часть правды.
– Его понесло! – безнадежно прошептал аббат.
– Ибо сок этой травы, как мне стало известно из эксперимента, вызывает волдыри, жжет и искажает рот. Мне также известен «rictus» или же псевдо-смех, который появляется на лицах тех, кто умер от сильных ядов из трав из рода ranunculus. Разумеется, предсмертный спазм напоминает смех. И по суждению моему, кажется, что Апулей лишь видел тело одного такого отравленного и был сбит с толку, отчего и написал, что человек отправился к праотцам, смеясь.
– Не удосужившись ни понаблюдать, ни проверить наблюдения экспериментом, – добавил, нахмурясь, францисканец.
Аббат Стефан посмотрел на Джона и приподнял бровь.
– А ты как полагаешь? – спросил он.
– Я не врач, – ответил Джон, – но я бы сказал, что Апулея за все эти годы могли подвести его переписчики. Они ведь часто вносят подправочки в текст, чтобы облегчить себе труд. Возьмем, к примеру, что Апулей написал, что душа как будто покинула тело, смеясь, после этого яда. Трое из пяти переписчиков (как по мне) просто выбросят это «как будто». Ибо кто же будет спорить с Апулеем? Если ему так показалось, значит, так оно и было. Иначе окажется, что любой ребенок лучше него знает ядовитый лютик.
– Ты знаешь травы? – отрывисто бросил Рогир из Салерно.
– Знаю только, что, когда я был еще мальчишкой, я устраивал себе язвы вокруг рта и на шее с помощью сока лютика, чтобы не ходить на молитву холодными вечерами.
– Ха! – хмыкнул Рогир. – На знание таких уловок я не претендую.
И он чопорно отвернулся.
– Ну, не важно! Теперь давай перейдем к твоим собственным уловкам, Иоанн! – тактично вмешался аббат. – Ты покажешь докторам свою Магдалину, и гадаринских свиней, и бесов.
– Бесов? Бесов? Я порождал бесов при помощи снадобий и изгонял их теми же средствами. Суть ли бесы внешнее от человека порождение или же от роду ему свойственное, я еще не решил. – Рогир Салернский все еще сердился.
– Да ты просто не смеешь! – огрызнулся оксфордский францисканец. – Одна только Мать наша Церковь может порождать своих бесов.
– Не только она! Наш Иоанн привез с собой из Испании совершенно новых.
Аббат Стефан взял протянутый ему лист тонкого пергамента и осторожно положил его на стол. Все собрались вокруг, чтобы посмотреть. Магдалина была нарисована бледной, почти прозрачной гризайлью на фоне ярящихся и трясущихся дьяволиц. Каждая из них воплощала особый грех, и каждая была изображена оттесненной и обезумевшей от подчинившей ее Силы.
– Я никогда не видел таких рисунков – серых, будто тени, – сказал аббат. – Где ты научился этому?
– Non nobis! [92] Оно пришло ко мне, – сказал Джон, не догадываясь о том, что он опередил свое время приблизительно на поколение.
– Почему она такая бледная? – вопросил францисканец.
– Зло вышло из нее – теперь она может принять любой цвет.
– Да, как свет, проходящий через стекло. Понятно.
Рогир Салернский смотрел молча – его нос склонялся все ниже и ниже к странице.
– Вот как, – сказал он в конце концов. – Значит, эпилепсия, – рот, глаза и лоб – даже изгиб запястья. Все симптомы! Ей нужно будет принимать укрепляющие средства, этой женщине, и, разумеется, выспаться. Но никакого макового сока, иначе, когда она проснется, ее будет тошнить. К тому же… однако я не на экзамене.
Он поднялся.
– Господин мой, – сказал он, – тебе не чуждо наше Призвание. Ибо, клянусь Змеями Эскулапа [93], – ты видишь!
И они пожали друг другу руки как равные.
– Что же вы скажете о Семи Бесах? – вступил аббат.
Семь бесов были вплавлены в крученые тела, похожие на цветы или языки пламени, их цвет менялся от мерцающего зеленого до темно-фиолетового – цвета изможденного порока; казалось, можно увидеть, как их сердца бьются под тонкой оболочкой. Но в знак надежды и здравых трудов новообретенной жизни миниатюру широкой каймой окружали стилизованные весенние цветы и птицы. Венчал изображение зимородок, взлетающий из зарослей желтого ириса.
Рогир Салернский распознал травы и стал многословно распространяться об их достоинствах.
– А теперь – гадаринские свиньи, – сказал Стефан.
Джон положил изображение на стол.
Тут были показаны бесы бездомные, страшащиеся изгнания в Бездну, толпящиеся и извивающиеся в спешке, чтобы проникнуть в любое отверстие открытого им свиного тела. Некоторые свиньи боролись с этим вторжением, дергались и исходили пеной, другие, вялые, легко покорялись ему, будто нежнейшему почесыванию, третьи, уже одержимые, брыкаясь, группами прыгали вниз, в озеро. В углу листа исцеленный человек потягивался, вновь привыкая владеть своим телом, а Господь, сидя, смотрел на него, как бы вопрошая, на что он употребит полученную свободу.
– Воистину, это бесы! – прокомментировал францисканец. – Однако совершенно нового вида.
Некоторые из бесов были просто комками плоти с выступами и прыщиками – намеком на дьявольское лицо, прильнувшее к студенистым стенкам. Также там было семейство нетерпеливых шарообразных чертенят, которые разорвали изнутри утробу своего самодовольного родителя и теперь отчаянно рвались к добыче. Другие выстроились в порядки, похожие на посохи, цепи или приставные лестницы, рядом с визжащей пастью одной из свиней. Из ее уха торчал гибкий блестящий хвост беса, который уже нашел себе новое пристанище. Были там и зернистые и скрученные клубком демоны, смешавшиеся с пеной и слюной в тех местах, где борьба кипела яростнее всего. Оттуда взгляд переходил на спины обезумевшего стада, которое мчалось к озеру, ошеломленное лицо свинопаса и ужас его пса.
Заговорил Рогир из Салерно:
– Я утверждаю, что сии твари суть порождение дурманящих зелий. Они не могли возникнуть в разумном сознании.
– Не эти, – воскликнул Фома, которому как служителю монастыря следовало бы просить у аббата разрешения заговорить, – не эти – смотрите!