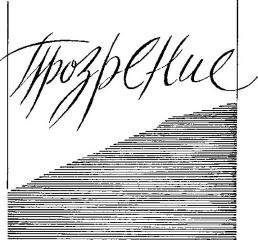Семён Клебанов - Настроение на завтра
Появился Журин лишь в полдень.
— Где вы бродите по ночам? Хотел в милицию заявить… Пропал, мол, заведующий будущим, — сказал Старбеев.
— В район на почту ходил. Семь туда и семь обратно.
— Вместо зарядки.
— Да нет… — Худощавый Журин похлопал себя руками. — Жиров не накопил… Звонил жене, узнавал, есть ли ответ экспертизы. Плохо дело. Четыре письма пока не поддаются восстановлению. И как назло — все солдатские треугольники. Бесценные документы! Можно разыскать фотографию бойца. Она есть у родных, близких, наконец, в архивах. Но письма неповторимы! И будет очень жаль, если летопись Отечественной станет беднее на четыре свидетельства участников войны. — Журин огорченно уставился на пишущую машинку, где торчал чистый лист бумаги.
— Я слышал, что наука в этой области способна на многое.
— А время? Каждый день дорог, даже каждый час. Все может случиться. Годы безжалостны к людям…
Старбеев молча вышагивал по комнате, затем вышел на балкон.
И почтовый ящик, и письма, зримо лежавшие на столе, и слова Журина — все возвращало к прошлому. Оно не покидало его, а лишь таилось в душе и сразу отзывалось, когда непостижимая жизнь обнажала старую беду.
Журин начал работать. И все-таки Старбеев оторвал его от дела.
— Какая дата на письмах? — спросил он, вернувшись в комнату.
— Это важно для вас?..
— Очень!
— Вот… Поглядите сами. Только, пожалуйста, осторожно. — Он положил несколько писем.
Старбеев опустился на стул и задумчиво смотрел на печальные конверты. Потом взял их. Они показались ему тяжелыми, словно долгое трудное время прибавило им свой вес. Гири беды всегда тяжеловесней, чем гири счастья. Он медлил прикоснуться к страничкам. Начертанные адреса уже не были простыми географическими обозначениями, а стали вехами войны…
Журин стоял у окна и наблюдал за Старбеевым. Ему, не знавшему войны, были дороги эти горестные минуты сопричастности к истории. И он уже думал о том, как будет рассказывать Толе Гришко и всем, кто придет в музей, о почтовом ящике и его письмах. И конечно, начнет со Старбеева. Вот с этих трепетных минут.
Старбеев читал медленно. Каждое слово, ранее привычное для глаза и слуха, теперь обретало особый смысл.
Старбеев пытался вспомнить что-то важное для него. Но возникал только редкий пунктир происшедшего. И тогда он спросил:
— Вы говорили, что есть еще письма солдат. Покажите, Евгений Алексеевич. Они здесь?
Журин открыл портфель, вынул солдатские треугольники со следами усохшего хлебного мякиша, которым были заклеены. Он неожиданно спросил:
— Как попали солдатские треугольники в почтовый ящик, а не в полевую почту?
— Пока с передовой письмецо дойдет до полевого узла связи, сколько времени минует, а тут Гнилово освободили. Машины туда ходили. Вот с оказией и отправляли, просили опустить в почтовый ящик…
— Читайте. — Журин дал письмо, лежавшее сверху.
Бледным карандашом, еще более потускневшим от времени, был начертан адрес Златоуста, где жила Конькова Ульяна Федоровна. Номер полевой почты стоял под строчкой неровных букв «Коньков Т. И.».
Старбеев раскрыл треугольник, страничку школьной тетради.
«Здравствуйте, дорогие женушка и детки! Пишу вам в ночной час при снарядной коптилке. Раз пишу, — значит, живой. А дальше загадывать не берусь. У нас бои жаркие. Фашист зверует. Правда, хвост ему отрубили. Сейчас хребет ломать будем… Трудная работа. Все думаю про вас, как вы там живете. Хорошо, что ты на заводе. При нужном деле, и опять же деньжата. Выходит, Вася и Нюра у бабушки. Здорова ли она? Отпиши все подробно. В третьем взводе нашел земляка. Он из госпиталя вернулся. Вспоминаем былое. Тяжко. Он некурящий, табачок мне отдает. Без табака, как говорит старшина, дело табак. Запамятовал я, писал ли вам, что орденом Красной Звезды награжден. Ежели нет, то знайте, как ваш батя воюет. Вот и конец бумаги. Крепко вас обнимаю. Ваш батя Тимофей Игнатьевич».
Старбеев положил письмо, спросил:
— Когда был освобожден поселок Гнилово? Не помните?
Журин еще вчера уловил особый интерес Старбеева к этому району. Но вопрос озадачил еще больше.
— Точно знаю. Проверял. В связи с письмами, — ответил Журин. — Первый раз это случилось шестнадцатого июня. Там были упорные бои. Противник отчаянно сопротивлялся, — ответил Журин.
— Знаю, знаю, — волнуясь, перебил Старбеев.
— К исходу дня двадцать пятого июня противнику удалось снова ворваться в Гнилово. И только шестого июля наши войска отбили поселок и повели успешное наступление дальше… Так это было, Павел Петрович.
— Было… — произнес Старбеев, вторя своим мыслям. — Было…
— Есть одно письмо, на нем дата — двадцать первое июня. Оно сейчас на восстановлении в экспертизе. Как раз по этому поводу я и отшагал четырнадцать километров… Адрес размыт и нижние строчки. У меня здесь копия. — Журин вынул из портфеля страницу и стал читать: — «Дорогая мама! Есть оказия, тороплюсь послать тебе весточку. Знаю, как ты переживаешь. Не вылезаем из боев. Каждый шаг полит кровью…»
— Евгений Алексеевич! Повторите!.. — Голос Старбеева дрогнул.
Журин прочитал снова и, глянув на его застывшее лицо, продолжил:
— «…Четырнадцатого июня, в этот проклятый день, я мысленно прощался с тобой. Думал — конец. И еще случилось такое. В нашем взводе оказался Хрупов, который…»— Журин пояснил: — Две строчки не прочитываются. Затем следует текст: — «Я чудом выжил». Все дальше выцвело… Вот такой документ, — заключил Журин и, увидев побледневшее лицо Старбеева, воскликнул: — Что с вами, Павел Петрович?!
Он не ответил.
Журин принес стакан воды.
— Попейте… Вам плохо? Пейте…
— Это мое письмо, — сказал Старбеев. — Мое… матери.
— Как война вас настигла. — Журин, сжав пальцы, хрустнул ими до боли.
На другой день Старбеев побывал на почте в райцентре. Он заполнил несколько телеграфных бланков Березняку, но, тут же скомкав листки, бросил в корзину. Получилось длинно и расплывчато. С иронией подумал — для дискуссий телеграф мало приспособлен. И наконец, написал: «Первые станки должны установить люди, которые будут на них работать. С этого начинается добровольное, сознательное чувство хозяина. Так понимаю свою ответственность. Старбеев».
Отправив телеграмму, он позвонил Валентине.
Старбеев не стал рассказывать про найденное письмо. Об этом нельзя скороговоркой. Надо присесть, смотреть друг другу в глаза и, дав волю памяти, пережить былое.
До непредсказуемой поры все, что было с нами в годы войны, хранится в памяти. Годы идут… Прошлого становится все больше и больше. А разве это прошлое? Пока мы живы, все, что было с нами, не может бесследно исчезнуть. Только до времени прошлое поглощено пластами жизни. Но в некий час вольно или невольно оно прорывается к нам.