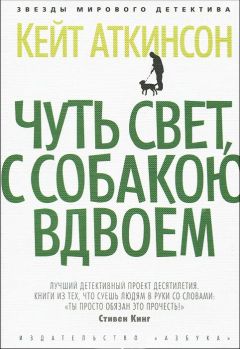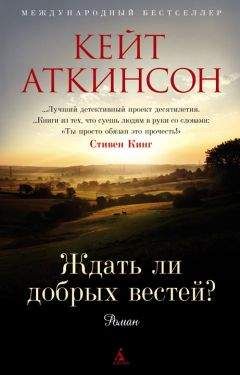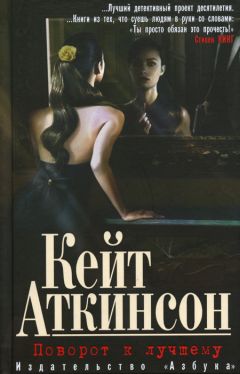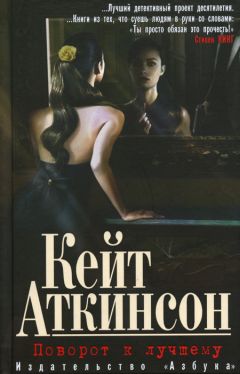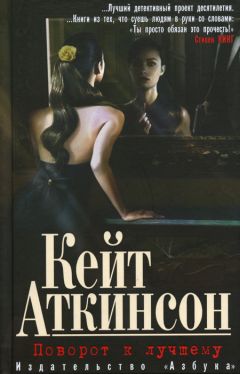Кейт Аткинсон - Чуть свет, с собакою вдвоем
Он уплыл во тьму, снова очухался и сообразил, что, вообще-то, не парализован, а связан — уподоблен не столько индейке в духовке, сколько египетской мумии. Лодыжки прочно скручены, руки стянуты за спиной, рот заклеен. Сначала больно, потом невыносимо больно, а через некоторое время все онемело, и от этого почему-то стало еще хуже. Башка болела, но не больше, чем должна, если ее били и пинали, — то есть ужасно. Хорошо, если выкрутится без черепно-мозговой.
Пожалуй, хорошо, если вообще выкрутится. На редкость некомпетентным червяком он неловко ерзал, пока голова не уперлась во что-то плоское и твердое. Он медленно маневрировал в пугающе замкнутом пространстве немногим больше гроба. Саркофаг странной формы, набитый чем-то вонючим.
Пока елозил, до него дошло, что он вдыхает пищевые отходы, аромат чоп-суи и неубиваемый запах жареной рыбы с картошкой. Он похоронен в большом контейнере для промышленных отходов вместе с объедками нескольких ресторанов, где подают одни жиры. Жужжала муха надо мной, когда я умирала[168]. Это потому, что здесь с ним заперта настоящая муха и она раздраженно жужжит, понимая, что ей тоже не выбраться.
От этой мысли ему несколько полегчало. Во всяком случае, он не рехнулся, не попал в ад и не превратился в гигантского червя. Его просто ударили по голове два крупных громилы и бросили в мусорный ящик.
Полегчало ему ненадолго. Позвать на помощь нельзя, пошевелиться невозможно — ерзанье не в счет — и никак не убежать. И к тому же где пес? Здесь его, кажется, нет. Может, ранен, валяется где-нибудь покалеченный? Собака в опасности.
Тут случилось кое-что похуже. Гораздо хуже. Густой рев мотора крупной техники. Рявканье низкой передачи, подъем и спуск гидравлических рычагов, беззаботный грохот и дружеские окрики — все симптомы прибытия утреннего мусоровоза. Джексон яростно задергался, пытаясь раскачать контейнер, — ни малейшего толка. Попытался взбрыкнуть связанными ногами, но почти не достал. Из-под ленты, заклеившей рот, вырывался разве что тихий отчаянный стон.
Рядом стояли другие контейнеры, он слышал, как их подкатывают к мусоровозу, как их поднимают, вытряхивают, ставят на место. Два контейнера. Его контейнер — третий. Он услышал, как один мусорщик сказал другому:
— Смотрел вчера «Высшую передачу»?[169] — а другой ответил:
— Не, жена «Балкера» смотрит. Надо бы подписаться на «Скай-плюс». «Балкер» — редкая хренотень.
Джексон слышал их совершенно отчетливо. Лежал в каких-то дюймах от них и не мог их позвать. Он пережил Залив, пережил Северную Ирландию и смертоносную железнодорожную катастрофу, а теперь умрет, как обычный отброс (собственно, в точности как отброс), — его сплющит в мусоровозе.
Контейнер дернулся и, подпрыгивая и грохоча, покатился к гибели. Джексон в опасности.
Значит, всё.
Конец.
До него донесся собачий лай. Не просто лай — яростное тявканье, способное довести человека до умопомешательства, если не прекратится сию секунду. Тявканье не прекращалось. Собака лаяла не умолкая. Тяв, тяв, тяв. Кажется, этот лай Джексон уже где-то слышал.
— Ну что такое? — спросил один мусорщик. — Что ты мне хочешь сказать, а?
— Что говоришь, Скиппи? — спросил другой, с дурным австралийским акцентом. — Что-что? Кто-то в беде?
«Я!» — беззвучно взревел Джексон.
Один мусорщик засмеялся:
— Скиппи — не собака, Скиппи — кенгуру. А это Лесси[170].
— Тогда уж Лестер.
Джексон будет умирать, а люди вокруг станут обсуждать, какого пола собака?
И вдруг солнце. Такое яркое, что Джексон ослеп. И свежий морской воздух. Свет и воздух, вот и все, что надо человеку, если вдуматься-то. И верный друг, который закатит грандиознейший скандал и не пустит тебя на великий небесный погост.
— Ну что, своих не бросаем? — сказал Джексон собаке, ковыляя назад в «Белла виста».
* * *Тилли с утра пораньше заварила себе чаю. Славная погодка улетучилась, в кухонное окно хлестал дождь. На часах десять минут шестого, — вообще, Тилли теперь сомневалась, правильно ли понимает, но сейчас была вполне уверена, что на дворе утро, потому что за дверью своей спальни храпела Саския. Саския отрицала, что храпит, вечно ворчала из-за того, как шумит Тилли: «Господи, Тилли, вы ночью ревели, как скорый поезд в тоннеле» или (Тилли подслушала, как Саския разговаривает с Падмой, — вот, Падма, вспомнила же имя, без проблем) «Это невыносимо, я совсем не сплю, все равно что с гигантским кабаном в одном доме жить». И Падма ответила: «А беруши не пробовали, мисс Блай?»
Капитан Блай, есть, сэр. Точнее, видимо, «никак нет, сэр», раз был мятеж[171]. Как обращаются к морским капитанам — «сэр»? Или «капитан»? «Фартук» тут не поможет. Этот лейтенант, гвардеец Саскии, — может, он знает? В конце концов, военный есть военный. Как же это его зовут? Саския — женщина лейтенанта. Тилли сыграла в этом кино[172] в эпизоде — служанку, что ли. Лайм-Реджис, обворожительное место, молодежь непременно хотела увидеть Лайм[173]. Ее любимая Остен. «Доводы рассудка». Мозг — что кружева, тонкие, сплошные дыры. Или крестильный платок. Белая шерсть на черной коже. Болтунья.
Руперт, вот как его зовут! Как Медвежонка Руперта[174]. Она любила эти ежегодники, ей дарили на Рождество. Руперт и его друзья. Барсук Билл, Пекинес Пинг-Понг (тоже, выходит, расизм?). Остальных забыла. Как-то раз на День подарков она что-то такое натворила, разозлила отца — кто его знает чем, его сплошь и рядом злили мелочи, — и он отнял у нее нового «Руперта» и стал выдирать страницу за страницей. Ох, милый боженька, пускай это все прекратится. Воспоминания, слова. Слишком много.
А лейтенант придет сегодня, так? Тогда понятно, отчего посреди кухонного стола таинственно разлегся пастуший пирог.
Дождь так шумит, точно стекло окатывают водой из ведра. Ворчит гром, будто звуковой эффект. Корабль в море у острова. Буря с раскатами грома и молниями[175]. Она играла Миранду в летнем театре. Где-то в ближних графствах, толком ничего не помнит, душу не вкладывала, а напрасно, но она была влюблена в Дагласа. Застряла в глуши Беркшира, или Букингемшира, или еще какого ближнего шира, а Даглас в Лондоне ставил пьесу. Он был на пятнадцать лет старше Тилли. Ей было всего двадцать, чудесная роль — такая прелестная невинность, — она тогда и не понимала, что никогда больше этого не сыграет. Теперь она Просперо, бедная старая Тилли, ломает жезл, вот-вот сдастся. Кончена забава, все были духи[176]. Плохой и приторный карамельный пудинг под конец.