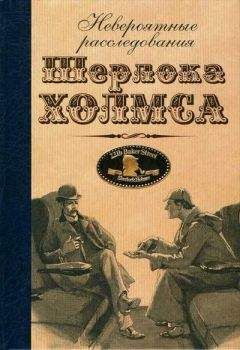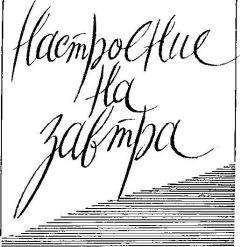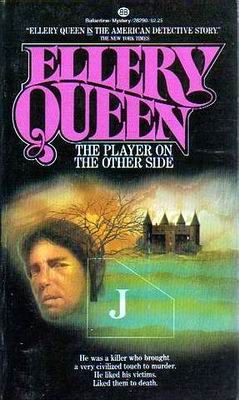Семён Клебанов - Прозрение
Меня стали бить… Сколько прошло времени, не помню. Но вдруг слышу крик: «Стойте, сволочи! Не троньте его! Стойте! Иначе сожгу! Всех сожгу!» Уже потом, в больнице, я узнал подробности. Какой-то парень из землекопов схватил бидончик с бензином — бидончик всегда был возле печки для растопа сырых дров — и облил бородача. Зажег коробок спичек и приказал: «Отпусти его! А то — спалю!» Бородач отпрянул. Парень поднял меня и вытащил на улицу. К нам уже бежали люди. Вот этот парень и был Митька… Кажется, по фамилии Ярцев.
По озабоченному лицу Дмитрия Николаевича было видно, что эта история ему неизвестна.
— Нет, — сказал он. — Простите, не припоминаю… А может, был другой Митька и тоже Ярцев?
— В одном бараке-то? Да мы бы знали, что есть однофамилец. Я потом заходил, расспрашивал. Но парня того не застал. Куда-то он перешел на новое место. Смотрю сейчас на вас — вроде тот самый…
— И я так думаю. Даже уверена, — запальчиво сказала Зоя Викторовна. — Просто сопоставьте факты. И вы все поймете. — Глаза ее блеснули. — Дмитрий Николаевич! Вы же сами вспомнили нашу стычку. Это произошло в пятом бараке. Я тогда не знала ни вашей фамилии, ни имени. Для меня существовал официальный для того времени адрес — пятый барак. Так и значилось в журнале регистрации вызовов. Через полгода, когда там же избили Родиона Николаевича, я хорошо помню, стала называть этот пятый проклятым. Это факт, а не догадка.
— Я понимаю… Но, согласитесь, мне вроде бы отказываться ни к чему… Только я действительно не могу вспомнить, — сказал Дмитрий Николаевич.
— А знаете, как бывает в жизни? Вроде бы пустота, провал, а утром или через день где-нибудь в автобусе или в лифте все ясно вспомнишь.
Супруги Кравцовы переглянулись.
— Извините за вторжение, — сказала Зоя Викторовна. — Не сердитесь на меня. Очень прошу.
— Вот уж не представлял, что возможна такая встреча… Мне было очень приятно. Спасибо. Приедете в Москву, дайте знать о себе. — Дмитрий Николаевич протянул Кравцову визитную карточку. — Буду рад.
Родион Николаевич все еще с надеждой всматривался в лицо Ярцева. Вероятно, ему очень хотелось, чтобы его спасителем был именно Дмитрий Николаевич. И, прощаясь, он сказал: — Удивительно, как жизнь тасует людей. Встречи, разлуки, снова встречи, потери, расставания. И вдруг видишь, как прошлое вступает в сегодняшний день… — Он пожал руку Дмитрию Николаевичу. — Всего вам доброго.
Когда Кравцовы ушли, Дмитрий Николаевич опустился в кресло и долго смотрел на дверь, словно ждал их возвращения.
И только перед сном понял причину своего беспокойства: «Кто они теперь? Почему я не спросил?»
Его раздумья прервал телефонный звонок.
— Слушаю. Нет, не сплю, Сергей Сергеевич.
В трубке звучал сипловатый голос главного врача глазной больницы.
— Завтра в девять утра операция, о которой мы говорили. Если вы не заняты — приезжайте. Мне звонил ректор университета Родион Николаевич Кравцов, спрашивал, в какой гостинице вы остановились. Хотел вас навестить.
— Супруги Кравцовы недавно ушли от меня, — ответил Дмитрий Николаевич.
* * *До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось два года.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Дмитрий Николаевич погасил папиросу и закрыл глаза.
Еще в институте профессор призывал студентов: «Когда слушаете больного, закрывайте глаза, чтобы лучше слышать. Наверное, заметили, так поступают музыканты».
Сейчас Ярцев прослушивал свою жизнь. Обдумывая прожитое, он с болезненным пристрастием искал родное, ярцевское.
Припомнился шалый весенний дождик. Он сыпал на землю, стучался в оконные стекла. Лужи то вскипали водяными пузырьками, то покрывались мелкой рябью.
Весна выдалась ранняя, сумбурная. Еще недавно, неделю назад, метелица гуляла в последнем отзимке, а на другой день выглянуло солнышко, и повсюду простенькими нотами зачастила капель. Снег обмяк.
А сегодня с утра зарядил дождь. Бродит по Москве, поливает прохожих — на счастье, заглядывает в окна — внимания просит.
Но Дмитрий Николаевич ничего не замечал.
Настольная лампа под зеленым абажуром освещала узкое лицо профессора, его короткую старомодную стрижку. Старинные напольные часы устало пробили одиннадцать.
Отложив книгу, Дмитрий Николаевич попытался понять, отчего возникло тревожное беспокойство. Никаких видимых причин не было. Возможно, взволновала книга Льва Толстого «Путь жизни».
Открылась дверь, и вошла дочь. Она никогда не стучала, прежде чем войти.
Однажды мать спросила, почему Марина так поступает. И Марина с категоричностью десятиклассницы ответила: «Нельзя квартиру превращать в учреждение».
Дмитрий Николаевич только посмеялся. Мир полон условностей бытия. «Если мне звонят по телефону, а я занят, то ведь дома ответят, что я еще не пришел с работы. Но в ту минуту кому-то нужен был именно я, только я…»
— Тебе телеграмма, папа, — сказала Марина, присев на диван. — Из Киева.
Дмитрий Николаевич поблагодарил, взял телеграмму.
— Что ты читал? — спросила Марина.
Он молча передал книгу. Полистав, она сказала:
— Я возьму. Интересно?
Они нередко читали с дочерью одни и те же книги. Он кивнул, подошел к столу.
— Что в школе?
— Учимся… Но мне кажется, ты хочешь спросить о Максиме. Я не ошиблась?
— Вы не поссорились?
— Подозреваю, он тебе нравится, — усмехнулась Марина. В ее голосе послышались какие-то новые интонации. Кокетливые, что ли… — Ходили в кино. Потом провожались.
Она чмокнула отца в щеку, вскочила с дивана и уже в дверях, прижав голову к косяку, добавила:
— Мне он тоже нравится. Спокойной ночи. Допоздна не работай, слышишь?
Марина просила об этом начиная с пятого класса. Он вечно засиживался за столом до глубокой ночи: были обильная почта, рукописи, книги, отзывы, диссертации, дипломы, отчеты. И надо было все успеть к определенному дню, чаще всего — срочно. Только вот если терпение и желание у него были всегда, про время этого никак не скажешь. И самое обидное, что ничего тут нельзя было изменить.
Дмитрий Николаевич прочел телеграмму:
«Приглашаю к телевизору в субботу вечером. Во втором акте я вам подмигну. Целую ваши золотые руки. Мещерин».
Так мог написать только Константин Михайлович.
«Вот как все получилось. — Дмитрий Николаевич повеселел. — А тогда тянул дрожащую руку, слезно причитал: «Помогите другу Василия Качалова, слепенькому актеру Мещерину…»
Много историй поведал Константин Михайлович профессору, пока лечился у него. И каждый рассказ — мудрость, откровение. Большой художник жил в его душе.