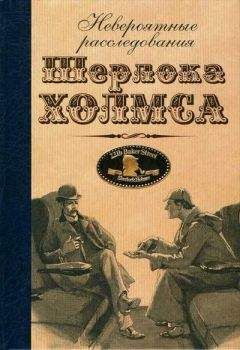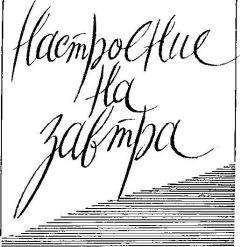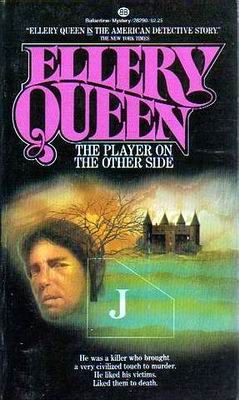Семён Клебанов - Прозрение
Много историй поведал Константин Михайлович профессору, пока лечился у него. И каждый рассказ — мудрость, откровение. Большой художник жил в его душе.
Дмитрий Николаевич любил поближе сойтись с людьми, которых лечил, старался вникнуть в их человеческую суть. Но среди множества своих пациентов личности более яркой, самобытной, чем Константин Михайлович, он не встречал.
Случилось с артистом, казалось, непоправимое. Однажды во время спектакля Мещерин спускался по декорационной лестнице и внезапно рухнул вниз на сцену.
— Почему вырубили свет?! — кричал он. — Включите!
Дали занавес. А зрители поначалу ничего не поняли, никто даже не встал с места. Да и кто мог подумать, что упавший актер мгновенно ослеп?
Как-то Константин Михайлович задержал профессора в палате неожиданной просьбой:
— Можно, я сыграю сцену из «Живого трупа»? Вдруг не доведется больше…
— Вам нельзя напрягаться, — сказал Дмитрий Николаевич.
— Что вы! Я так, шутя… Только не уходите. Я не могу без зрителей.
И Дмитрий Николаевич стал свидетелем чуда: почти мгновенно Мещерин превратился в Федора Протасова. В лице Мещерина с застывшим взглядом слились воедино страдания и боль. Руки судорожно шарили в карманах распахнувшегося халата. Потом, приставив к сердцу вместо пистолета чайную ложечку, артист вздрогнул и повалился на кровать… «Что ты сделал, Федя? Зачем?» — воскликнул он за Лизу и прошептал: «Прости меня, что не мог… Иначе распутать тебя… Мне этак лучше. Ведь я уже давно… готов».
Он заплакал. И вместо реплики: «Как хорошо. Как хорошо» — молитвенно произнес:
— Дмитрий Николаевич, если бы вы знали, как хочется жить, видеть…
В тот день Дмитрий Николаевич не мог ему ничего обещать. Только через три месяца в глаза Мещерина прорвался свет.
— Вы не поверите, Дмитрий Николаевич! Я вижу! Прекрасно вижу…
— И что же вы видите?
Мещерин вдруг опустился на колени:
— Вас, дорогой кудесник!
Смущенный Дмитрий Николаевич помог ему подняться, спросил нарочито рассерженно:
— Сосчитать мои пальцы сможете? Сколько?
— Два.
А сейчас?
— Пять, — ответил Мещерин. — И все пять — бесценные! Они вернули мне Отелло и Протасова.
— Не забуду, как вы чайной ложечкой стрелялись, вот на этом коврике, — сказал Дмитрий Николаевич.
Теперь Мещерин снова играет на сцене.
…Дмитрий Николаевич подошел к окну.
Дождь утих, словно растеряв силы. Под светом фонарей бездонно поблескивал асфальт. Ветер, покачивая ветки, ронял стеклянные горошины капель.
Как всегда перед сном, Дмитрий Николаевич позвонил и больницу дежурному врачу.
— Ирина Евгеньевна? Это Ярцев. Тихо? — Так обычно он спрашивал о новостях и, услышав столь же краткое: «Спокойно», заканчивал свой рабочий день.
Но сегодня голос Ирины Евгеньевны прозвучал тревожно:
— Несколько часов назад из военного госпиталя доставили летчика. Готовимся к операции.
— Авария?
— Кажется, с самолетом столкнулась птица. Пробило лобовое стекло. У летчика тяжелое ранение. Поражен правый глаз.
— Когда это случилось?
— Утром.
— Почему мне сразу не позвонили?
— Нельзя же всегда надеяться на вас…
— Понял. И тем не менее я приеду.
— Сами будете оперировать? — Она спросила почти шепотом.
Дмитрий Николаевич улыбнулся. Он живо представил себе тихую Ирину Евгеньевну, у которой сейчас, наверно, покраснели щеки, словно она совершила что-то недозволенное.
— Нет, — ответил он. — Я просто хочу видеть этого парня.
В ночных коридорах больницы горели одинокие лампочки.
Только операционный этаж светился всеми окнами.
В вестибюле возле вешалки одевалась врач Баранова. Увидев Дмитрия Николаевича, она сказала с сочувствием:
— Опять на ночь глядя… Не жалеете вы себя, Дмитрий Николаевич.
— Начальство пожалеет, — ответил он, входя в лифт.
В главном операционном зале лежал капитан Белокуров.
Командир говорил про него: он рожден для неба. А что его ждало теперь? Куда, в какую сторону повернется его судьба?
Жизнь летчика Белокурова, с ее трудами, с багровыми закатами заречья, где раскинулся аэродром, с березовой рощей, где стояли дома военного поселка, была теперь в руках хирурга Ручьевой.
Ирина Евгеньевна знала почти все про ранение Белокурова, но ей не было известно, что три дня назад у больного, которого готовили к операции, родился сын и он еще не видел мальчишку.
Увидит ли?
Дмитрий Николаевич стоял в сторонке, чтобы глаза Ирины Евгеньевны не встречались с его молчаливым, настороженным взглядом. Внешне он был спокоен, а отмечая ее уверенные, точные движения, освобождался и от безотчетной внутренней тревоги.
Следя за операцией, он думал о случившемся. Оказывается, раненый, ослепший летчик сумел посадить машину. Сохранить сознание в таких обстоятельствах почти невозможно. Это редчайший случай. И объяснением может быть только несгибаемая воля летчика.
Потом Дмитрий Николаевич услышит признание Белокурова: «Я все время внушал себе: сядешь, должен сесть и сядешь!»
Утром он, Белокуров, получил задание полкового «института прогноза». Задача была привычная — разведать погоду перед началом полетов.
Выполнив задание, он возвращался на аэродром и прикидывал, что через пару дней поедет в город и заберет из родильного дома Ольгу и мальчишку. «Хорошо бы назвать его Никиткой. Ольга, наверно, согласится».
От неожиданного толчка голова его откинулась назад и резко ударилась о жесткую спинку сиденья.
Лицо заливала кровь.
Еще не понимая, что случилось, он попытался открыть глаза, но уже не увидел солнца, разлетевшийся пух и забрызганные кровью приборы. Одна туманная красноватая муть.
Белокуров решил: надо сажать машину. Вслепую. По командам с земли.
— Седьмой! — запросил он командный пункт.
Ответа не было.
Прижав мягкие ларинги, повторил:
— Седьмой!
И снова тишина.
Он провел рукой по шнуру шлемофона и обнаружил, что тонкий шнур перебит.
Сквозь кровавую муть пилот еле угадывал очертания приборов. Но все-таки понял, что подходит к посадочной полосе.
Она совсем близко. Только бы не ошибиться… Белокуров глубоко вздохнул и захлебнулся от теплой крови во рту.
Сил оставалось все меньше.
Касание. Машину повело и встряхнуло. Руки вцепились в штурвал. И не могли разжаться.
«Теперь все, — сплевывая кровью на пол кабины, подумал он. — Мы в дамках, Оля».
Сирена «скорой помощи» уже пронзительно выла.
* * *Белокуров лежал в палате один. Вторая кровать пустовала. Ему нужен был абсолютный покой.