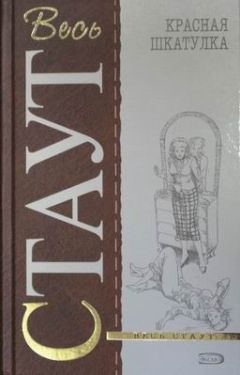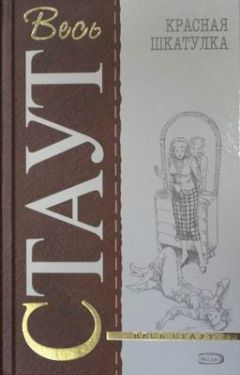Рекс Стаут - Острие копья
— Вы убили их, — тихо промолвил Вульф.
— Да, я убил их. Кровь пролилась на пол и попала на игрушки сына. Я оставил его. Сам не знаю, как я не убил его тоже, поскольку не был уже уверен, что это мой сын. Я оставил его сидеть на полу, ушел и напился. Напился в последний раз.
— Вы вернулись в Штаты?
— Через какое-то время, месяц спустя. Я не думал бежать. В Аргентине не бегут после этого. Но я свернул все свои дела там и навсегда покинул Южную Америку. Я вернулся туда лишь четыре года назад.
— Покидая Аргентину, вы взяли мальчика с собой?
— Нет. Я вернулся теперь для того, чтобы сделать это. Когда я оставил его, родственники моей жены забрали его к себе. Они жили в пампе. Там я и встретил свою жену. Мальчика звали Мануэль. Это имя моего друга. Я сам выбрал его, сам назвал сына в честь друга. Я вернулся в Штаты один, и все двадцать шесть лет жил один, решив, что рынок куда лучше жены, которую я себе однажды выбрал. Но, видимо, все это время меня мучили сомнения, или человек к старости становится добрее. Возможно, я почувствовал свое одиночество или старался убедить себя, что все же у меня есть сын. Четыре года назад, когда я прочно встал на ноги, я вернулся в Буэнос-Айрес. Я нашел сына в полном порядке. Когда семья жены разорилась, он был еще совсем юнцом, после их смерти он пережил тяжелые времена, но в конце концов ему повезло. Когда мы с ним встретились, он был одним из лучших летчиков аргентинской армии. Мне пришлось уговаривать его изменить свою жизнь. Поначалу он попробовал работать в моей конторе, но это было не его дело, и вот теперь на деньги, которые я ему дал, он намерен заняться самолетами. Я купил участок в Вестчестере, построил дом, и тешу себя надеждой, что, когда мой сын женится, ему не придется совершать поездки, которые вдруг могут окончиться, как когда-то моя.
— Ваш сын, конечно, знает… о матери?
— Не думаю. Хотя не знаю, мы об этом никогда не говорили. Надеюсь, он не знает. Не потому, что меня мучает раскаяние, я поступил бы снова так же. Я не делаю вида, что в Мануэле нашел именно такого сына, какого хотел бы, если бы выбирал сам, и это можно было делать по заказу. Он — аргентинец, я — из Иллинойса. Но он носит мое имя, и у него голова на плечах. Он, я надеюсь, женится на американской девушке и тогда можно будет сравнять счет.
— Несомненно. — Вульф так и не притронулся к стакану с пивом, пена в нем осела, оно напоминало по цвету остывший чай. Наконец он взял стакан и выпил.
— Да, мистер Кимболл, вы изложили свою точку зрения — вам причинили зло. Но вы, как бы это выразиться, сами приняли меры. Если считать, что зло было также причинено вашему сыну, вы теперь вполне успешно возместили это. Ваша исповедь, пожалуй, не лучше моей. Волей-неволей я все же признаю свою вину. Как сказал бы мистер Гудвин, тут уж не выкрутишься. Но если ваш сын тоже страдает от этого зла?
— Нет!
— А если такое возможно?
Я увидел, как опустил глаза Кимболл, и понимал его. Я знал, как бывает трудно иногда выдержать взгляд Ниро Вульфа. Но, казалось, что Кимболл, удачливый торговец, застрахован от такого. А вот нет, дрогнул. И не пытался скрыть этого. Он внезапно встал.
— Нет, не страдает, — повторил он. — Я не воспользовался вашим признанием в своих целях, как вы, мистер Вульф, — бросил он в лицо Вульфу.
— У вас есть еще возможность, — ответил Вульф, не шелохнувшись в кресле. — Можете использовать любые свои преимущества. Давайте начистоту. Невиновному нечего меня бояться. — Он взглянул на часы. — Через пять минут у меня ланч. Приглашаю вас разделить его со мной. Я в друзья не навязываюсь, просто к вам и к другим в нашем положении у меня нет неприязни. Тридцать лет назад, мистер Кимболл, вас постигло горькое разочарование, и вы действовали решительно. А сейчас растерялись. Давайте подумаем, что можно сделать. Оставайтесь.
Но Кимболл отказался. Мне показалось, что впервые он выглядел испуганным. Ему хотелось как можно скорее убраться отсюда, но я не понимал почему.
Вульф попытался еще раз уговорить его остаться. Но, видимо, у Кимболла не было желания сделать это. Испуг исчез, он стал сама любезность. Воскликнув в какой уже раз, — «Господи!» по поводу того, что так задержался, он упрекнул Вульфа, что тот так и не сказал ему, как избавиться от надоеданий полиции, и, выразив надежду, что разговор останется между ними, откланялся.
Я проводил его до входной двери и предложил отвезти в контору, но он отказался, сказав, что поймает такси. Я смотрел ему вслед со ступеней крыльца и убедился, что его ноги сохранили кривизну, отличающую бывалых наездников.
Вернувшись и не найдя хозяина в кабинете, я прошел в столовую. Вульф уже усаживался в кресло, а Фриц стоял наготове рядом, чтобы придвинуть его к столу. Когда Вульф устроился, я тоже сел. Я знаю, что он не любит говорить о делах за столом, но почему-то чувствовал, что на этот раз он изменит своему правилу. И он действительно это сделал. Однако не так, как я ожидал. За столом он любил говорить пространно и медленно на любую тему, пришедшую ему в голову, обращаясь не только к самому себе, но и ко мне тоже. Я же, полагаю, был неплохим слушателем. Но в этот день за столом он не промолвил ни слова, лишь в перерывах между глотками пива задумчиво надувал и втягивал губы. Он даже забыл прокомментировать, как обычно, кулинарные достоинства блюд, приготовленных Фрицем. Это дало мне повод многозначительно подмигнуть Фрицу, убиравшему чашки после кофе. Он понимающе кивнул в ответ, что, мол, не обиделся на хозяина.
Вернувшись в кабинет, Вульф так же молча опустился в кресло. Я навел порядок на своем столе, вынул из-под груды бумаг исписанные листки блокнота и сколол их вместе. Затем сел и приготовился ждать, когда к хозяину вернется рабочее настроение. Спустя какое-то время он шумно, как кузнечные мехи, вздохнул, отодвинул кресло, открыл ящик стола и стал рыться в крышках от пивных бутылок. Я молча следил за ним. Наконец, задвинув ящик, он сказал:
— Мистер Кимболл — несчастный человек, Арчи.
— Он обманщик.
— Возможно. И тем не менее он несчастный человек. Он осажден со всех сторон. Его сын хочет убить его, и не намерен отступать от своего. Если Кимболл признается в этом даже самому себе, он — конченный человек, и он это знает. Его сын, а с его помощью и будущие наследники рода Кимболлов — это все, ради чего он живет. Он не может признаться в этом и, видимо, не сделает этого. Но если он не признается, более того, не предпримет ничего, он обречен, ибо вскоре умрет и, возможно, страшной смертью. Эту дилемму ему не решить, она слишком сложна и отягощена обстоятельствами. Он нуждается в помощи, но не осмеливается просить о ней. Причина тому та же, что и у всех смертных, — вопреки всему он надеется. Надеется, что, не признавшись, может позволить себе уповать на «если». Ведь его сын уже пытался убить его и по чистой случайности убил Барстоу. Может, сын поймет, что это не простая случайность, а знак свыше. Может, его еще можно переубедить, он готов поговорить с ним как мужчина с мужчиной, и тогда сын все поймет, пойдет на разумную сделку с судьбой и подарит отцу жизнь взамен той, которую так нечаянно отнял у другого. Тогда Кимболлу удастся дожить до того дня, когда он сможет покачать внука на коленях. А пока состоится эта сделка, самая значительная из всех его сделок, Кимболл-старший будет в постоянной опасности. Это может напугать любого, даже того, кто моложе и честнее его. Но он не просит помощи, ибо, попросив, выдаст сына, подвергнет его опасности еще большей, чем та, которая грозит ему самому. Великолепная дилемма. Я редко сталкивался с такой, чтобы так беспощадно наставила на жертву все свои рога. Это так обескуражило Кимболла, что он совершил то, что редко когда совершал, — он вел себя, как дурак. Он выдал своего сына и, однако, не обезопасил самого себя. Он не скрыл того, что пряталось за его страхом, а сам страх отрицал.