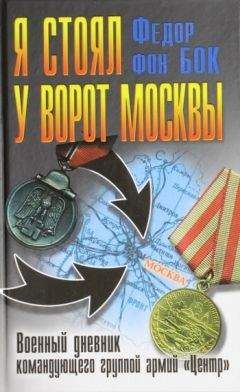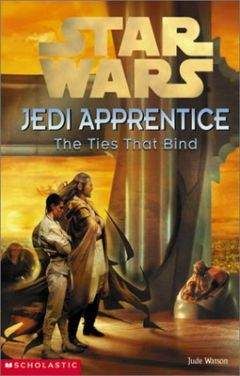Колин Уотсон - Здесь был Хопджой
— Там проживают, кажется, две женщины: о которой из них ты говоришь?
— О дочери. Мамаша даже не пискнула ни разу. Просто все время была рядом.
— Ты спросил о ссоре в ванной?
— Да. Она сказала, что не слышала ни криков, ни какого-либо другого шума, хотя наблюдала за окном все время, пока-горел свет.
— Но если она не спала, то непременно должна была услышать хоть' что-нибудь. Между домами не будет и тридцати метров. А даже Периам признавал, что Хопджой буквально заходился от крика; ему-то, изо всех людей, признание в том, что ссора имела место, не давало ни малейших преимуществ: скорее даже наоборот. Опять же. если не было никакого шума, какого дьявола ей взбрело в голову посылать письмо, о котором она говорит?
Несколько секунд Лав хранил молчание. Затем, словно стараясь искупить некий просчет в котором он один и был виноват, сержант сказал:
— Знаете, она действительно говорила, что слышала какой-то шум, будто били стекло; но это было позже, когда она уже отправилась спать. Это вполне могла быть та штука из-под кислоты, не так ли? Она еще добавила, что снова встала с постели и увидела, как кто-то ходит по саду.
— Пожалуй, — заключил Пербрайт, — мне нужно будет самому побеседовать с миссис Корк. А ты, тем временем, Сид…— он достал из кармана конверт, — вот займись-ка этой зажигалкой, потаскай ее по знакомым Хопджоя, посмотри, смогут ли они ее опознать.
Вопреки ожиданиям Пербрайта мать и дочь Корк приняли его с неким подобием радушия. Дочь провела инспектора в гостиную, где температура воздуха приближалась к оранжерейной — небольшой, но яркий огонь полыхал за тщательно вычищенной каминной решеткой, — и удалилась, чтобы приготовить чай. Миссис Корк приветствовала Пербрайта медленным наклоном головы. Она сидела на мягком стуле в оконной нише. Пока ее дочь отсутствовала, она не произнесла ни слова, но одобрительно смотрела на него, не отводя глаз, и время от времени кивала головой, словно боялась, что без такого рода ободрения гость может встать и уйти, не дождавшись, когда закипит чайник.
Пербрайт посмотрел вокруг себя, оглядывая комнату, которую, как он предполагал, сами хозяева называли сундуком сокровищ памяти. Едва ли одна из бесчисленного количества загромождавших ее вещей была когда-либо использована по назначению. Книги в шкафу за стеклянными дверцами были отодвинуты подальше, в самую его глубь, чтобы освободить место для нарядных фарфоровых графинчиков, старого календаря, пыльных барботиновых безделушек и коллекции рождественских открыток, оставшейся от давным-давно прошедших Рождеств. Вазы, которых было великое множество, стояли без воды и без цветов, только из бисквитного бочонка косо торчали несколько бумажных роз. Внутри набора из трех квадратных графинов виднелись бледно-желтые пятна древнего осадка. Алебастровая пепельница с фигурами карточных мастей была загружена вместе с коробкой фишек, фарфоровым ботинком и маникюрным набором в салатницу граненого стекла.
Комнату буквально осаждали картины. Их, если можно так сказать, флагманскими кораблями являлись литография в тяжелой раме, изображающая лошадь, которая просунула свою морду в открытое окно коттеджа во время семейного обеда («Незваный Гость»), и огромная тонированная гравюра Виндзорского замка с группками отдыхающих, в лентах и с гирляндами, на переднем плане. С дюжину или около того фотографий, стоящих на мебели или свисающих на длинных кусках бечевки с картинной рейки, проецировали печальные, серые взгляды умерших родственников, привязанных к их уже состоявшейся встрече с прошлым студийной пальмой или полуобвалившимся мостом.
В комнате пахло линолеумом и передающимися из поколения в поколение коробками со швейными принадлежностями. Над разогретым воздухом чуть уловимо парил нафталиновый запах женской старости.
Поставив поднос себе на колени, Мириам Корк с изящной уверенностью движений приготовила три чашки чаю. Разливание чая, заметил про себя инспектор, было тем занятием, которое придавало своего рода законченность облику этой жилистой женщины с негнувшейся спиной. Ее тонкие губы были сосредоточенно поджаты. Большой нос с бородавкой на одной стороне словно вытягивался еще дальше вперед, озабоченно оценивая крепость и аромат заварки. Ее глаза, бледные, неспокойные глаза ипохондрика, застыли, наблюдая за поднимающейся янтарной линией; в них светилось что-то похожее на гордость.
Пербрайт приступил к беседе. Задавая вопросы, он неизменно давал понять, что ожидает встретить в собеседнице того рода словоохотливость, на которую способна только женщина, получающая откровения непосредственно из уст божия в награду за свою готовность нисходить до интереса к мирским слабостям и непостоянству.
О да, она знает семью Периамов с тех самых пор, когда Гордон был совершенным крошкой. Он явился благословением свыше для своей матери, несчастной души, которой господь в своей неизреченной мудрости послал вдовство посредством пивного фургона, потерявшего управление. Через все годы пронес мальчик свою сыновнюю верность, — как бы ни изгалялась некая бесстыжая мисс На-Меня, чтобы отнять его у матери и женить на себе.
— Он, значит, встречался с девушкой в то время? — Пербрайт нашел этот момент интригующим.
— Если ее так можно было назвать. Она вешалась на него с тех самых пор, как он пошел в школу. Но он не заставлял дорогую мамочку переживать за него: девчонка ни разу не переступила порога их дома, покуда миссис Периам не сошла в могилу. Конечно, я-то знала заранее, что ее конец близок, и вовсе не потому, что слышала про операцию. А операция, заметьте, была ужасная: ей, бедняжке, все внутри вырезали. Нет, за день до того, как она преставилась, я видела своего человека в черном плаще, он медленно прошел под окном ее дома. И я тогда прямо сказала маме: «Мама, миссис Периам кончается: тот человек опять прошел мимо».
Миссис Корк, глядя в окно невидящими ревматическими глазами, устало кивнула в подтверждение ее слов.
— То же самое было и с дядей Уиллом. И со старым мистером Элиотом на углу. Всякий раз я видела человека в черном плаще. Я всегда знаю наперед, когда за чьей-то жизнью опускается занавес.
Ассоциативный ряд заставил Пербрайта торопливо прервать ее вопросом:
— Скажите, мисс Корк, а в ту ночь, о которой вас расспрашивал сержант… что вы тогда увидели через дорогу?
Без малейшего колебания она переключилась на новую, предложенную инспектором цепочку воспоминаний:
— Это была одна из тех ночей, когда мне бывает плохо, — два высохших пальца незаметно подобрались и исследовали область солнечного сплетения. — Доктора предупредили меня никогда не есть ничего с семечками, опасаясь, что они могут застрять, а в тот день с чаем я съела полбулочки с инжиром; всего полбулочки, но и этого оказалось достаточно. Я промучилась до самого рассвета, а затем парафин, благодарение богу, — уж я так благодарила Его! — начал действовать, прямо там, во что под руку пришлось, и я ни капельки не стыдилась. Но уж доктор Харрис и всыпал мне на следующий день, когда я ему рассказала. «Мирри», сказал он — он всегда зовет меня Мирри — «что я говорил тебе насчет семечек, а? Я тебе говорил, что, если хоть одно застрянет после того, что ты пережила, дело может кончиться дубовым ящиком, девочка моя». Ну, он, конечно, улыбался, но все равно было видно, как он взволнован, у него вокруг рта совсем побелело…