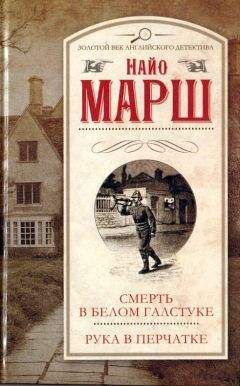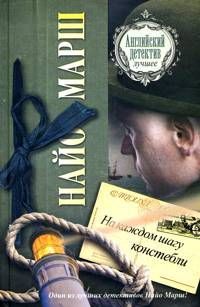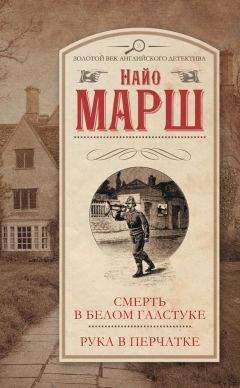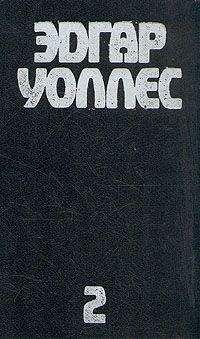Эдгар По - Падение дома Ашеров (сборник)
Болезнь леди Маделины долго ставила в тупик ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь; но в сумерки того дня, когда я приехал (как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат), она сдалась обессиливающему могуществу разрушительницы; и я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним и что я более не увижу ее – по крайней мере живую.
Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени; и это время я был поглощен настойчивыми попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, все глубже допуская меня к тайникам его души, тем с большею горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и непременная особенность, изливался на все духовное и материальное единым и непрерывным излучением тоски.
Вовеки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом наедине с властелином Дома Ашеров. И все же мне бы не удалась никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фон Вебера. Из картин, которые разрабатывала его изощренная фантазия и которые, мазок за мазком, наделялись зыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную, что необъяснимую – из его картин (как живо ни стоят сейчас предо мною их образы) я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю, поддающуюся словесному выражению. Полною простотою, нагою четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере, для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, кои моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез Фюзели.
Одно из фантасмагорических творений моего друга, не столь беспощадно отвлеченное, хотя и в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неимоверно длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землею. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света; и все-таки по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием.
Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшем для страдальца невыносимою всякую музыку, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которою он был ограничен, – гитара – в значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая легкость его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий (ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами) итогом той напряженной умственной собранности и сосредоточенности, о коей я упоминал ранее как о наблюдаемой лишь в мгновения особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого разума пошатнулся. Стихи, озаглавленные «Заколдованный чертог», звучали приблизительно, а быть может, и в точности, так:
IДобрых ангелов обитель,
Расцветал зеленый лог;
Там, равнины повелитель,
Воздымал главу чертог.
Где владенья Мысли были,
Он стоял!
Ввек над лучшим краем крылий
Серафим не простирал.
Золотистые знамена
Осеняли светлый кров
(Было так во время оно,
В бездне веков);
И каждый ветерок, что вился
Вокруг знамен,
От пышной крыши уносился,
Благоуханьем напоен.
Виден странникам в долине
Танец был сквозь два окна
Духов, полных благостыни;
Лютня там была слышна,
Что полнила волной гармоний
Роскошный зал —
Порфирородный там на троне
Властитель края восседал.
Сияли на вратах чертога
Рубины, перлы в те года —
Лилось там много, много, много
Искрящихся всегда
Прелестных звуков без начала,
Чья цель была
Петь гимны, дабы в них звучала
Уму владетеля хвала.
Но в черных ризах злые духи
Напали на чертог царя;
(Ах, восскорбим: среди разрухи
Не запылает вновь заря!)
И прошлой славы ликованье
Во всем краю кругом —
Лишь полустертое преданье
О сгинувшем былом.
И видят путники в долине:
Сквозь окна льется красный свет
И чудища кружатся ныне
Под музыку, где лада нет;
А в своде врат поблекших вьется
Нечистых череда,
Хохочут – но не улыбнется
Никто и никогда.
Отлично помню, что эта баллада наводила нас на цепь размышлений, делавших ясною одну мысль Ашера, о коей упоминаю не ради ее новизны (ибо так думали и другие)[2], но из-за упорства, с каким он ее отстаивал. Мысль эта, в общем, сводилась к мнению о том, что все растительное наделено чувствительностью. Но в его расстроенном воображении эта идея приобрела более дерзновенный характер и, при некоторых случаях, вторгалась в царство неорганической материи. У меня нет слов, дабы выразить всю меру и бесконечную полноту его убежденности. Представление это, однако, связано было (как я намекал ранее) с серыми камнями его дедовской усадьбы. Чувствительность этого дома, по его понятиям, образована была методою соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшею их и стоящие окрест гнилые деревья, – и, прежде всего, длительной, ничем не смущаемой незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность эта существует, заключалось, по его словам (и, пока он говорил это, я вздрогнул), в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен. Последствия можно было усмотреть, добавил он, в том безгласном, но неослабном и ужасающем влиянии, что долгие века ваяло судьбы его рода и сделало его таким, каким я теперь его вижу, – таким, каким он стал. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и я от них воздержусь.