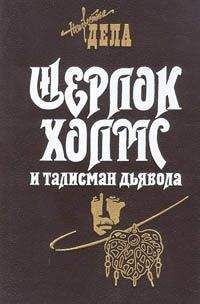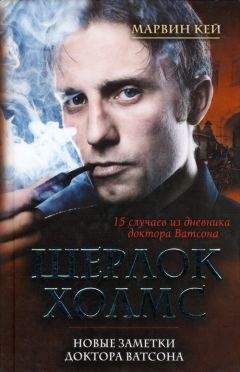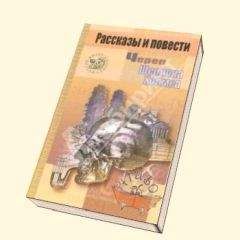Жорж Сименон - Мари из Порт-ан-Бессена
— Тебе штанишки…
— А размер ты мой знаешь, дурочка?
— Я прикинула, что чуть меньше, чем у меня…
Это был странный вечер, не похожий ни на какой другой. Одиль делала выкройку. Мари разговаривала, держа булавки во рту. Они едва не поругались, споря о том, как подрубать ткань.
— Что ты поела?
— Ничего… В доме же ничего нет…
— А ты, индюшка, не могла сходить к колбаснику?
Можно сказать, что Мари подчинила себе старшую сестру.
— Ты ляжешь у стенки… У тебя все еще такие же холодные ноги? Спокойной ночи.
— Как глупо… — вздохнула Одиль.
— Что глупо?
— Зачем он все-таки поднялся наверх.
Короткими фразами они поговорили в темноте еще немного, обо всем, что приходило в голову; мало-помалу постель стала нагреваться теплом их тел.
В шесть часов Мари бесшумно собралась на работу и на углу стола оставила деньги, чтобы Одиль смогла купить себе поесть.
Через два дня Одиль устроилась уже словно навсегда, окружив себя своим привычным беспорядком, мелкими привычками, остатками еды, всегда валявшимися на столе, и полупустыми чашками кофе, потому что он был ее страстью.
Когда в десять часов вечера Мари возвращалась и закрывала за собой дверь, весь мир, кроме них двоих, переставал существовать. Воздух пах горящим деревом и жареной рыбой, как когда-то давно. Они даже пустили ход стенных часов, которые старый друг их отца выиграл на бильярде и поменял на несколько корзин омаров.
— Ты все еще не получала писем?
— Они после долгих споров послали объявление в газету в Кане. Одиль хотела написать «горничная», но ее сестра возразила: она такая же горничная, как и генерал, она не умеет даже чисто закончить стежок!
И все-таки!.. Они написали «горничная»!.. Они не особенно томились ожиданием, поскольку особого значения это не имело, и продолжали шить для Мари, строго наблюдавшей за ходом дела.
— Если бы у нас была швейная машинка, — вздыхала Одиль. Машинка для полудюжины рубашек и штанишек! — О нем новостей так и нет…
— Нет… Его капитан звонил ему…
— Ну и?
— Ну и ничего.
— А Марсель?
— Тоже ничего.
В свое время, по мере того как они взрослели, сестры вели кухонное хозяйство, согнувшись над очагом, в сабо, дверных передниках; приглядывали за Улиткой.
— Скажи-ка, Мари…
— Что?
— Я вот тут подумала… Почему бы нам не поехать в Париж вдвоем?..
— Потому, моя милая, что я не хочу ехать в Париж.
— Почему?
— Да потому, что мне и здесь хорошо…
У Одили не было необходимости вставать рано, и спать ей не хотелось. Она долго крутилась в постели от желания поговорить.
— Ты спишь?
— Да.
— Что это ты нашла хорошего в Порте?
— Мне кажется, здесь хорошо.
— В «Морском кафе»? Подавать рыбакам выпивку?
— Нет…
— Что же тогда?
— Дай мне уснуть.
Тишина. Неровное дыхание.
— Ты спишь?
— Да, я же тебе сказала!
— Скажи мне по-честному. У тебя есть любовник?
— Не исключено…
— А кто он?
— Оставь меня в покое.
— Я его знаю?
Мари поднялась, босиком прошла зажечь лампу и встала перед сестрой, прищурившей от света глаза.
— Так ты не хочешь оставить меня в покое, да? Добиваешься, чтобы я вернулась ночевать в свою комнату при кафе?
— Что ты злишься? Я же имею право знать…
— Ладно! Так знай, что я никогда не уеду из Порта… И что я выйду замуж… И что я буду жить по ту сторону бухты в таком же доме, как те два красных…
Это были два известных, единственных в своем роде дома. Один из них принадлежал судовладельцу, имевшему три корабля и командовавшему одним из них. Другой дом принадлежал новому доктору, большому и бородатому, отцу шестерых или семерых детей.
Казалось, оба эти дома куплены по каталогу, как игрушки, такие они были веселые и нарядные. Именно таким ребенок воображает некий идеальный дом-с очень высокой крышей, ярко-красный, с гаражом слева, с террасой и балконами, с окнами скорее широкими, чем высокими, в стиле английских коттеджей.
В четырнадцать лет Мари хотела стать нянькой у детей судовладельца, так ей нравилась выложенная белой керамической плиткой кухня, где был газ, а каждая кастрюля висела на своем никелированном крючке.
— Теперь ты довольна? — бросила она сестре, грызя зеленое яблоко.
— Что это ты замышляешь?
— Ничего я не замышляю. Просто я хочу иметь такой же дом, как эти… Их тогда будет не два, а три, вот и все. У меня будут дети и прислуга, чтобы ими заниматься.
— Ложись! Постель стынет.
— А кто этого хотел? У моего мужа будет маленький автомобиль, и в дни его возвращения с моря мы будем ездить в кино, в Байо.
— Кто он?
— О ком ты?
— Ну, муж…
— Увидишь, девочка, позднее. Подвинься. Твоя толстая попа заняла все место. Спокойной ночи…
— Ты не хочешь сказать, кто он? — в полудреме все еще настаивала Одиль.
Мари, засыпая, продолжала сосать кусок яблока.
Они знали, что нужно соблюсти некие формальности, но всегда думали, что с ними можно и подождать, поэтому как-то утром Мари была удивлена, увидев одноколку дядюшки Пенсмена, остановившуюся перед кафе.
— Одевайся побыстрей, нам нужно в Байо, — сказал он ей, поприветствовав сначала хозяина и положив свой кнут на стол. — Нужно явиться к мировому судье. Я написал, чтобы Одиль тоже была там.
— Одиль не получила письма.
— Почему?
— Потому что ее больше нет в Шербуре… Она здесь.
Бывали дни, когда у Мари возникало желание подшучивать над людьми, и особенно она любила подшучивать над дядюшкой Пенсменом, у которого были смешные рыжие усы, всегда влажные, как у некоторых спаниелей.
— Скажи ей, чтобы она собиралась… Буссю будет там в час…
Ветер задувал так сильно, что Пенсмен тревожился за откидной верх своей повозки. Мари с сестрой съежились позади под лошадиной попоной, которая приятно пахла и в которой застряло много колючих соломин. Мари видела Пенсмена в профиль. Время от времени она толкала локтем сестру, потому что у дядюшки Пенсмена опять на кончике носа повисала капля; эта капля мгновение дрожала и наконец соединялась с такими же каплями, уже скатившимися в усы.
— Ваша тетя тоже ждет нас, — сказал он так, будто обещал им шоколаду.
— Как она себя чувствует?
— Неплохо, если бы не расширение вен… Но на той неделе в Байо должен приехать специалист, может, он сумеет что-нибудь сделать?
Действительно, они все собрались вместе под крытым входом здания мирового суда; там был ужасный сквозняк, и у Мари снова защекотало в носу. В соответствии с обстоятельствами они были в глубоком трауре, за исключением Одили, оставившей свою вуаль в Шербуре. Бледно-синее небо и крутящиеся на месте опавшие листья наводили на мысль о Дне всех святых[4].