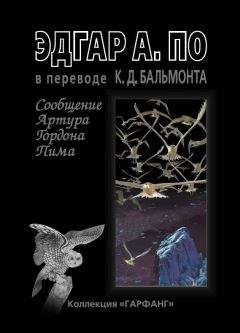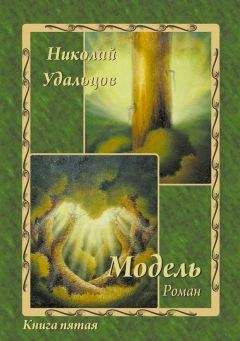Эдгар По - Заколдованный замок (сборник)
Стрелка уже вдавилась в мою шею на четыре дюйма, и ей оставалось только рассечь тонкий слой кожи. Я испытывала непередаваемое счастье, сознавая, что, самое позднее через несколько минут, избавлюсь от своего неприятного положения. И мои ожидания не были обмануты. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка передвинулась и перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без всякого сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделилась от туловища. Она соскользнула по стене колокольни, немного помедлила в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, покатилась по самой середине улицы.
Должна признаться, что мои чувства приняли очень странный, больше того, совершенно необъяснимый и таинственный характер. Мое сознание раздвоилось и находилось одновременно и тут, и там. Головой я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена не где-нибудь, а именно в туловище. Чтобы прояснить свои мысли на этот счет, я полезла в карман за табакеркой, но, достав ее и попытавшись обычным образом использовать ее содержимое, тотчас поняла свою несостоятельность и бросила табакерку вниз, своей голове. Та с видимым удовольствием нюхнула табачку и послала мне улыбку в знак признательности. А затем обратилась ко мне с речью, которую я неважно расслышала, опять же, за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить в таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариосто[178], сравнив меня с героем, который, не заметив в пылу битвы, что умер, с отчаянной храбростью продолжал сражаться.
Теперь уже ничто не мешало мне спуститься вниз, что я и сделала. Что уж так поразило Помпея в моей внешности, я до сих пор не знаю. Однако он растянул рот до ушей, зажмурился так крепко, будто собирался колоть веками орехи, а затем, бросив пальто, помчался вниз по лестнице и исчез из виду. Я бросила вслед негодяю гневные и страстные слова Демосфена: «Эй, Эндрю О’Флегетон, как можешь ты бросать меня?»[179] — а затем обернулась к своему сокровищу, лохматой и короткохвостой Диане. Но боже, что за страшное зрелище предстало предо мной! Неужели это крыса только что юркнула в нору? А это что? Обглоданные косточки моего ангела, съеденного злобным чудовищем? О боги, боги! Мне кажется, я вижу в углу призрак, дух моей любимой собачки, сидящей в углу с обычной меланхолической грацией… Но что это? Кажется, она заговорила, и — о небо! — на языке Шиллера:
Унд штабби дак, зо штабби дун
Дук зи! Дук зи!
Увы! Сколько правды в этих словах!
Пусть это смерть — я смерть вкусил
У ног, у ног, у милых ног твоих…
Нежное создание! Она тоже пожертвовала собой ради меня. Без Дианы, без Помпея, без головы, что теперь остается несчастной синьоре Психее Зенобии? Увы, ничего! Для нее все кончено.
Перевод Л. Уманца
Лягушонок
Я в жизни своей не видал такого шутника, как этот король. Он, кажется, жил только ради шуток. Рассказать забавную историю, и рассказать ее хорошо, как полагается, — таков был наилучший способ добиться его милости. Потому-то все его семь министров пользовались славой отменных шутов. Словно взяв пример со своего короля, все они были люди крупные, грузные, обрюзгшие и неподражаемые шутники. Толстеют ли люди от шуток, или сама по себе толщина к ним располагает — этого я никогда не мог выяснить доподлинно, но, так или иначе, худощавый шутник — rаrа avis in terris[180].
Король не особенно заботился об утонченности или, как он выражался, о «духе» остроумия. В шутке ему нравилась главным образом широта, и ради нее он готов был пожертвовать глубиной. Он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле «Задигу» Вольтера, да и в целом ему больше нравились шутовские выходки, чем словесные остроты.
В эпоху, к которой относится мой рассказ, профессиональные шуты еще не перевелись при дворах. Даже в некоторых великих континентальных державах имелись придворные «дураки», носившие пестрое платье, колпак с погремушками и обязанные отпускать остроты по первому требованию в обмен на объедки с королевского стола.
Разумеется, и наш король держал при себе «дурака». Правду говоря, он испытывал потребность в некоторой дозе глупости, хотя бы в качестве противовеса утомительной мудрости своих министров, не говоря уже о своей собственной.
Однако его «дурак» — то есть профессиональный шут — был не только шутом. В глазах короля он имел тройную цену, потому что был еще и карлик, и калека. Карлики при тогдашних дворах были явлением столь же обычным, как и «дураки»; и многие короли не знали бы, как скоротать время (а время при дворе тянется медленнее, чем где-либо), не будь у них возможности посмеяться над шутом или карликом. Но, как я уже говорил, шутники в девяноста девяти случаях из ста тучны, пузаты и неповоротливы, ввиду этого наш король немало радовался тому, что в лице Лягушонка — так звали его шута — обладает тройным сокровищем.
Я не думаю, что имя Лягушонок было дано этому карлику восприемниками при крещении. Вернее всего, оно было пожаловано ему — с согласия семи министров — за неуменье ходить по-человечески. Действительно, Лягушонок двигался как-то судорожно — не то ползком, не то прыжками; одна его походка вызывала безграничное веселье и немало тешила короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и благоприобретенную одутловатость лица.
Несмотря на то что Лягушонок мог передвигаться по земле или по каменным плитам дворца только с трудом, чудовищная сила, которой природа наделила его руки, как бы в возмещение за слабость нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные трюки. Когда ему доводилось уцепиться за ветки или веревки и куда-нибудь вскарабкаться, он сразу становился похож скорее на белку или обезьяну, чем на лягушку.
Я не знаю толком, откуда был родом Лягушонок. Кажется, из какой-то варварской страны, о которой никто ничего не слышал из-за ее отдаленности от двора нашего короля. Лягушонок и одна молодая девушка по имени Трипетта, такая же карлица, как и он, но удивительно пропорционально сложенная и превосходная танцовщица, были оторваны от своих семей и посланы в подарок королю одним из его непобедимых полководцев.
Немудрено, что при таких обстоятельствах между двумя маленькими пленниками возникла близкая дружба. Вскоре они стали закадычными друзьями. Лягушонок, который, несмотря на свои шутки, не пользовался большой популярностью, не мог оказать Трипетте больших услуг, зато она благодаря своей грации и красоте пользовалась большим влиянием при дворе и всегда была готова использовать его ради Лягушонка.