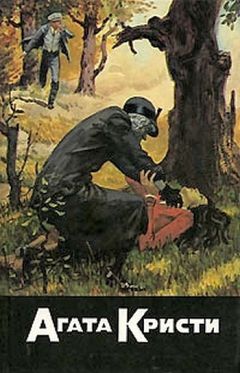Дороти Сэйерс - Возвращение в Оксфорд
— Гарриет, — сказал Питер, — я хочу попросить у вас прощения за последние пять лет.
— Наоборот, это я должна просить прощения, — ответила Гарриет.
— О нет. Когда я вспоминаю, как мы впервые встретились…
— Питер, не надо вспоминать то страшное время. Меня с души воротило от самой себя. Я сама не знала, что делаю.
— И именно в это время, когда я должен был думать только о вас, я стал вам навязываться, требовать чего-то, как последний дурак — как будто стоит мне попросить, и я тут же получу желаемое. Гарриет, поверьте, как бы это ни выглядело, моя бестактность происходила всего лишь от тщеславия, от детского, слепого нетерпения добиться своего.
Она молча покачала головой, не находя слов.
— Я нашел вас, — продолжил он немного спокойнее, — когда уже ни на что не надеялся, ничего не ждал, когда думал, что ни одна женщина не может для меня ничего значить, кроме легкой необязывающей сделки, приносящей обоюдное удовольствие. И я до смерти боялся потерять вас прежде, чем успею до вас дотянуться, и вывалил на вас всю свою жажду, весь страх, как будто, господи прости, вам не о чем было подумать тогда, кроме меня, моего бездумного эгоизма. Как будто мои желания имели какое-то значение. Как будто сами слова любви не были худшей дерзостью, какую мужчина мог позволить себе по отношению к вам.
— Нет, Питер. Это не так.
— Дорогая моя, вы показали, что обо мне думаете, когда сказали, что будете со мной жить, но замуж за меня не пойдете.
— Не надо. Мне стыдно за те слова.
— А какой горький стыд испытываю я. Если бы вы знали, как я старался это забыть. Я говорил себе, что вас пугают социальные последствия брака. Утешал себя, что, значит, я хоть немного вам нравлюсь. Я обманывал себя месяцами, прежде чем смог признаться себе в унизительной правде, которую должен был знать с самого начала: вам так надоели мои приставания, что вы готовы были швырнуть себя мне, как швыряют кость собаке — пусть только прекратит лаять постылая животина.
— Питер, это неправда. Меня тогда тошнило от самой себя. Как могла я вам дать ломаный грош в приданое?
— Ну, по крайней мере, у меня хватило ума не принять его в уплату долга. Но я не смел сказать вам, каким упреком стал для меня этот жест, когда я понял его истинный смысл. Гарриет, религия не слишком много для меня значит, да и мораль тоже, но у меня есть что-то вроде правил игры. Я знаю, что главный грех, который может совершить страсть — может быть, единственный грех, — это стать безрадостной. Она должна идти рука об руку со смехом или отправиться в ад — среднего пути нет. Поймите меня правильно, я часто платил за любовь, но в этом никогда не было принуждения или «великой жертвы». Пожалуйста, никогда больше не думайте, что вы хоть чем-то мне обязаны. Раз вы не можете дать мне настоящее, я могу довольствоваться имитацией. Но мне не нужно ни капитуляции, ни крестных мук… Если вы питаете ко мне хотя бы какие-то добрые чувства, обещайте, что больше никогда не сделаете мне такого предложения.
— Ни за что на свете! Ни сейчас, ни во веки веков! Я только теперь обрела ценность для самой себя. Тогда мои слова ничего не значили — я сама себе была не нужна. Теперь все иначе.
— Если вы почувствовали свою ценность, то это неизмеримо важнее всего остального, — сказал он. — Гарриет, мне понадобилось много времени, чтобы выучить свой урок. Мне пришлось постепенно, кирпичик за кирпичиком, разбирать те заграждения, которые я построил в своем эгоизме и безрассудстве. И если за эти годы я приблизился к той точке, с которой должен был начать, можете вы сказать мне об этом, позволить мне начать сначала? Несколько раз за последние дни мне казалось, что вы могли бы стереть из памяти это несчастное время, забыть его.
— Забыть — нет. Но я могла бы вспоминать его с радостью.
— Спасибо. Это больше, чем я ожидал и заслужил.
— Питер, несправедливо позволять вам говорить так. Это я должна просить прощения. Я, по крайней мере, обязана вам самоуважением. И жизнью.
— А! — сказал он с улыбкой. — Но этот долг закрыт — ведь я позволил вам рискнуть этой самой жизнью. Что окончательно доконало мое тщеславие.
— Питер, вы не представляете, как я это ценю. Хоть за это я могу быть благодарной?
— Я не хочу благодарности…
— Но, может, вы примете ее?
— Если вы этого хотите, я не имею права отказаться. Давайте считать, что мы квиты, Гарриет. Вы дали мне гораздо больше, чем думаете. В том, что касается меня, вы свободны отныне и навеки. Вы сами видели вчера, к чему могут привести личные притязания, — пусть я и не хотел, чтобы вы увидели это в таком жестоком воплощении. Обстоятельства заставили меня быть честнее, чем я намеревался, хотя я и так собирался быть честным до определенной степени.
— Да, — задумчиво проговорила Гарриет, — Я не могу себе представить, чтобы вы подтасовали факты для подтверждения своей гипотезы.
— В чем прок? Что бы я выиграл, поддерживая в вас ложные убеждения? Я начал с того, что царственно предложил вам небо и землю. А теперь вижу, что могу дать вам только Оксфорд — а он и так ваш. Вот он — обойдите его, пересчитайте башни его.[311] Будем считать, что мне выпала скромная привилегия почистить и отполировать вашу собственность и преподнести ее вам на серебряном блюде. Получайте свое наследие и, как сказано по совсем другому поводу, не смущайтесь ни от какого страха.[312]
— Питер, дорогой мой, — сказала Гарриет. Она повернулась спиной к сверкающему городу, оперлась о балюстраду, посмотрела ему в глаза. — О черт!
— Не беспокойтесь, — сказал Питер. — Все в порядке. Кстати, кажется, на следующей неделе я опять в Риме. Но я буду в Оксфорде до понедельника. В воскресенье концерт в Бэйлиоле. Придете? Проведем еще раз ночь в бывалом оживленьи,[313] усладим души баховским концертом для двух скрипок. Если вы потерпите мое общество еще немного. После этого я отчалю и оставлю вас…
— Уилфриду и компании, — закончила Гарриет с тяжким вздохом.
— Уилфриду? — переспросил Питер, оторопев на мгновенье, пытаясь понять, о чем она говорит.
— Ну да, я ведь переписываю Уилфрида.
— О боже, конечно. Персонаж с душевными терзаниями. Как он поживает?
— Получше, мне кажется. Почти очеловечился. Я собираюсь посвятить книгу вам — Питеру, без которого Уилфрид никогда не стал бы собой, что-то в этом роде… Не смейтесь так, я правда работаю над Уилфридом.
Отчего-то это страстное уверение вызвало лишь новый приступ хохота.
— Моя дорогая, если что-то, что я сказал… Если вы так близко подпустили меня к вашей работе и жизни… Вот что, пойду-ка я, пока не наделал глупостей. Для меня великая честь войти в вечность на отвороте брюк Уилфрида. Придете в воскресенье? Я ужинаю с ректором, но встречу вас у лестницы трапезной. До встречи.