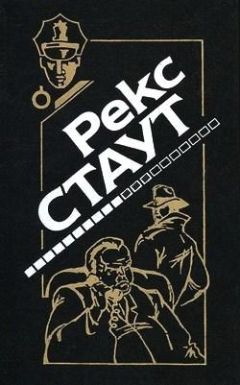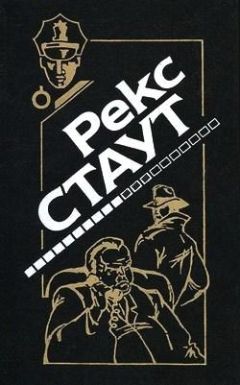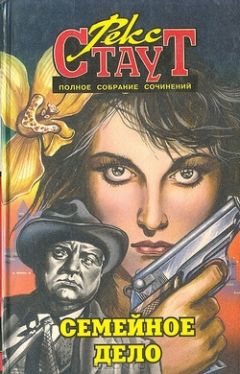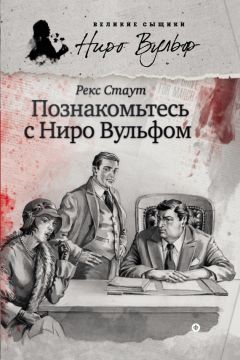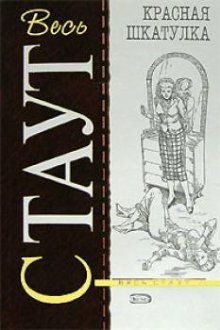Филлис Джеймс - Первородный грех
— Вы хотите сказать, что ваша сестра была влюблена в Генри Певерелла?
Сестра Агнес взглянула на нее так, будто только что обнаружила ее присутствие. Затем она снова отвернулась, еще плотнее прижала руки к груди и сказала с едва заметным содроганием:
— Соня была его любовницей последние восемь лет его жизни. Она называла это любовью. Я называла это наваждением. Не знаю, как это называл он. Они никогда вместе не бывали на людях. По его настоянию их связь держалась в глубочайшем секрете. Комната, где они занимались любовью, — та самая, где она умерла. Я всегда знала, когда они бывали вместе. В те вечера, когда она задерживалась в издательстве. Когда она возвращалась домой, я чувствовала на ней его запах.
— Но зачем такая таинственность? — возразила Кейт. — Чего он боялся? Он не был женат, она — не замужем. Оба — взрослые люди. Кому какое дело до этого, кроме них самих?
— Когда я задала ей этот вопрос, у нее уже был готов свой собственный ответ. Скорее — его собственный. Она сказала, что он не собирается снова вступать в брак, что он хочет остаться верным памяти жены, что ему неприятна самая мысль о том, что его личные дела станут предметом издательских сплетен, что их отношения огорчат его дочь. Она принимала все его оправдания. Ей было довольно, что он вполне очевидно нуждается в том, что она может ему дать. Разумеется, все могло быть гораздо проще: она удовлетворяла его чисто физическую нужду в ней, но была недостаточно молода, недостаточно красива, недостаточно богата, чтобы вызвать у него желание на ней жениться. И я думаю, что для него таинственность добавляла остроты их отношениям. Может быть, ему нравилось унижать ее, проверять, где предел ее преданности, красться наверх, в эту убогую комнатенку, словно какой-нибудь викторианский хозяин, услаждающий горничную. Меня больше всего расстраивала не греховность этих отношений, а их вульгарность.
Дэлглиш не ожидал такой искренности, такой открытости. Но возможно, это было не так уж удивительно. Должно быть, она многие месяцы вынуждена была выдерживать взятый на себя обет молчания, но теперь, перед двумя незнакомыми людьми, с которыми ей скорее всего никогда больше не придется встречаться, дала волю накопившейся горечи.
— Я всего на полтора года старше Сони, мы всегда были очень близки. Он все разрушил. Она не могла сочетать и то и другое — свою веру и свою любовь к нему. Так что она предпочла его. Он разрушил наше доверие друг к другу. Какое могло быть между нами доверие, если я презирала ее бога, а она — моего?
— Так она не сочувствовала вашему призванию? — спросил Дэлглиш.
— Она не могла этого понять. Он тоже. Он смотрел на это, как на уход от мира и от ответственности, от сексуальных отношений, от участия, а она верила в то, во что верил он. Она, конечно, довольно давно знала, что я задумала. Подозреваю, она надеялась, что никакой монастырь меня не примет. Не очень многие общины приветствуют пожилых послушниц. Монастырь ведь не предназначен для разочарованных и неудачников. И Соня, конечно, знала, что я не могу предложить им никаких практических умений, никаких талантов. Я была — я и сейчас остаюсь — реставратором книг. Мать-настоятельница время от времени отпускает меня поработать в библиотеках Лондона, Оксфорда, Кембриджа, при условии, что там найдется подходящий дом, я хочу сказать — монастырь, где я могла бы пожить какое-то время. Но такая работа выпадает мне все реже и реже. Очень много времени требуется, чтобы отреставрировать и заново переплести ценную книгу или рукопись, гораздо больше, чем то, на которое меня могут отпустить.
Дэлглиш вспомнил, как три года назад ему довелось посетить библиотеку в Колледже Тела Христова, в Кембридже, где ему показали Иерусалимскую библию, которую под целым эскортом охраны возили в Вестминстерское аббатство то на одну, то на другую коронацию, вместе с одним из самых ранних иллюстрированных экземпляров Нового Завета. Только что заново переплетенное сокровище, любовно вынутое из особого ящика, было осторожно уложено на пюпитр в форме буквы «V», с мягкой обивкой, и страницы переворачивались специальной лопаточкой, чтобы избежать прикосновения рук. Он с восхищением смотрел — сквозь призму пяти веков — на тщательно проработанные рисунки, чьи краски были такими же яркими, как тогда, когда с такой удивительной точностью стекали с пера художника. Эти рисунки своей поразительной красотой и истинной человечностью чуть было не вызвали у него слезы.
— Ваши занятия здесь считаются более важными? — спросил он.
— О них судят по иным критериям. Кроме того, здесь отсутствие у меня более практических навыков и умений не считается недостатком. Ведь всякий, после недолгого обучения, может управлять стиральной машиной или отвозить пациента в инвалидном кресле в ванную, а то и подкладывать судно. Я не уверена, что даже этой работы хватит надолго. Священник, который служит у нас капелланом, переходит в католичество из-за решения англиканской церкви посвящать в духовный сан женщин. Половина сестер следуют его примеру. Будущее ордена Святой Анны как англиканского монастыря — под сомнением.
Они прошли уже все три дорожки и теперь тем же путем возвращались назад. Сестра Агнес продолжала говорить:
— Генри Певерелл не единственный, кто встал между нами в последние годы жизни моей сестры. Была еще Элайза Брейди. О, вам не придется разыскивать ее, коммандер. Она умерла в 1871 году. Я прочла о ней в отчете о коронерском расследовании, помещенном в газете викторианских времен, которая попалась мне в букинистической лавке на Черинг-Кросс-роуд и которую, к несчастью, я передала Соне. Элайзе Брейди было от роду тринадцать лет. Ее отец работал у торговца углем, а мать умерла при родах. Элайзе пришлось стать матерью четверым младшим братьям и сестрам и новорожденному младенцу. В своих свидетельских показаниях ее отец заявил, что девочка была матерью им всем. Она трудилась по четырнадцать часов в сутки. Она мыла, стирала, разжигала камин, готовила, делала покупки, заботилась обо всем семействе. Однажды утром, когда она сушила пеленки малыша на защитной сетке перед камином, она неудачно оперлась о сетку, и та свалилась в огонь. Девочка тяжко обгорела и через три дня умерла в страшных муках. Ее история сильно подействовала на мою сестру. Она сказала: «Вот какова справедливость твоего Бога, который, как ты утверждаешь, полон любви. Вот как он вознаграждает невинных и добрых. Ему недостаточно было убить ее. Надо было, чтобы она умирала долго и в страшных муках». Элайза Брейди стала для Сони прямо-таки наваждением. Она эту девочку просто в культ возвела. Если бы у сестры был ее портрет, она стала бы молиться перед ним, только я не знаю кому.