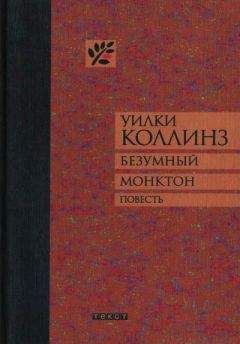Уилки Коллинз - Лунный камень
— При всем уважении к вам и вашему стряпчему, — сказал он, — я держусь выраженного мною мнения. Мне хорошо известно, что основывается оно только на предположении. Но простите, если я напомню вам, что и ваше мнение основано лишь на предположении.
Взгляд его был совершенно нов для меня. Я ждал с беспокойством, как он будет защищать его.
— Я предполагаю, — продолжал Эзра Дженнингс, — что под влиянием опиума вы взяли алмаз, чтобы спрятать его в безопасном месте, под этим же влиянием вы могли спрятать его где-нибудь в вашей комнате. Вы предполагаете, что индусские заговорщики не могли ошибиться. Индусы отправились в дом Люкера за алмазом, — следовательно, алмаз должен находиться у мистера Люкера. Имеете вы какие-нибудь доказательства, что Лунный камень был отвезен в Лондон? Вы ведь не в силах даже угадать, как и кто увез его из дома леди Вериндер? Имеете вы улики, что алмаз был заложен Люкеру? Он уверяет, что никогда не слыхал о Лунном камне, а в расписке его банкира упоминается только о ценной вещи. Индусы предполагают, что мистер Люкер лжет, — и вы опять предполагаете, что индусы правы. Могу сказать в защиту своего мнения только то, что оно возможно. Что же вы, мистер Блэк, рассуждая логически или юридически, можете сказать в защиту вашего?
Сказано было резко; но нельзя было отрицать, что сказано было справедливо.
— Признаюсь, вы поколебали меня, — отвечал я. — Вы не против того, чтоб я написал мистеру Бреффу о том, что вы сказали мне?
— Наоборот, буду рад, если вы напишете мистеру Бреффу. Посоветовавшись с его опытностью, мы, может быть, увидим это дело в новом свете. Пока же вернемся к нашему опыту с опиумом. Решено, что вы бросаете курить тотчас же?
— Тотчас же.
— Это первый шаг. Следующий шаг должен состоять в том, чтобы воспроизвести, насколько возможно точно, домашние обстоятельства, окружавшие вас в прошлом году.
Как это можно было сделать? Леди Вериндер умерла. Рэчель и я, пока на мне лежало подозрение в воровстве, были разлучены безвозвратно. Годфри Эбльуайт был в отсутствии, путешествовал по континенту. Просто невозможно было собрать людей, находившихся в доме, когда я ночевал в нем в последний раз. Эти возражения не смутили Эзру Дженнингса. Он сказал, что придает весьма мало значения тому, чтобы собрать тех же самых людей, так как было бы напрасно ожидать, чтобы они заняли то же положение относительно меня, какое занимали тогда. С другой стороны, он считал необходимым для успеха опыта, чтобы я видел те же самые предметы около себя, которые окружали меня, когда я в последний раз был в доме.
— А важнее всего, — прибавил он, — чтобы вы спали в той комнате, в которой спали в ночь после дня рождения, и меблирована она должна быть точно таким же образом. Лестницы, коридоры и гостиная мисс Вериндер также должны быть восстановлены в том виде, в каком вы видели их в последний раз. Решительно необходимо, мистер Блэк, поставить мебель на те же места в этой части дома, откуда, может быть, теперь ее вынесли. Бесполезно жертвовать вашими сигарами, если мы не получим позволения мисс Вериндер сделать это.
— Кто обратится к ней за этим позволением? — спросил я.
— Нельзя обратиться вам?
— Об этом не может быть и речи. После того, что произошло между нами из-за пропажи алмаза, я не могу ни видеться с нею, ни писать ей.
Эзра Дженнингс умолк и соображал с минуту.
— Могу я задать вам деликатный вопрос? — спросил он. Я сделал утвердительный знак. — Правильно ли я сужу, мистер Блэк, по двум-трем фразам, вырвавшимся у вас, что вы испытывали не совсем обычный интерес к мисс Вериндер в прежнее время?
— Совершенно правильно.
— Платили вам за это чувство взаимностью?
— Платили.
— Как вы думаете, не заинтересуется ли мисс Вериндер опытом, могущим доказать вашу невиновность?
— Я в этом уверен.
— В таком случае я сам напишу мисс Вериндер, если вы дадите мне позволение.
— И расскажете ей о предложении, которое сделали мне?
— Расскажу ей все, что произошло между нами сегодня.
Излишне говорить, что я с жаром принял услугу, которую он мне предлагал.
— Я еще успею написать с сегодняшней почтой, — сказал он, взглянув на часы. — Не забудьте запереть ваши сигары, когда вернетесь в гостиницу! Я зайду завтра утром и услышу, как вы провели ночь.
Я встал, чтобы проститься с ним; я старался выразить признательность, которую действительно чувствовал за доброту его. Он тихо пожал мне руку.
— Помните, что я сказал вам на торфяном болоте, — ответил он. — Если я смогу оказать вам эту маленькую услугу, мистер Блэк, мне покажется это последним проблеском солнечного света, падающим на вечер длинного и сумрачного дня.
Мы расстались. Это было пятнадцатого июня. События последующих десяти дней (каждое из них более или менее относится к опыту, в котором я был пассивным участником) записаны, слово в слово, как они случились, в дневнике помощника мистера Канди. На его страницах ничто не утаено и ничего не забыто. Пусть Эзра Дженнингс расскажет, как был сделан опыт с опиумом и чем он кончился.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАССКАЗ,
выписанный из дневника Эзры Дженнингса
1849, июня 15. Хотя меня прерывали мои больные и моя боль, я кончил письмо мисс Вериндер вовремя, к сегодняшней почте. Мне не удалось написать так коротко, как я того желал бы. Но мне кажется, я написал ясно. Письмо предоставляет ей совершенную свободу решить так, как пожелает она сама.
Если она согласится помочь опыту, она согласится добровольно, а не из милости к мистеру Фрэнклину Блэку или ко мне.
Июня 16. Встал поздно после ужасной ночи; действие вчерашнего опиума преследовало меня страшными снами. То я кружился в пустом пространстве и с призраками умерших друзей и врагов, то любимое лицо, которое я никогда не увижу, вставало над моей постелью, фосфоресцируя в черноте ночи, гримасничая и усмехаясь мне. Легкое возвращение прежней боли в обычное время, рано утром, было даже приятно мне, как перемена. Оно разогнало видения — и поэтому было терпимо.
После дурно проведенной ночи я поздно встал и опоздал поэтому к мистеру Фрэнклину Блэку. Я нашел его лежащим на диване, он пил виски с водой и ел печенье.
— Я начинаю так хорошо, как только вы можете пожелать, — сказал он, — несчастная, беспокойная ночь; полное отсутствие аппетита сегодня утром.
Точь-в-точь так, как случилось в прошлом году, когда я бросил курить. Чем скорее я буду готов для второго приема опиума, тем будет мне приятнее.
— Вы получите его так скоро, как только возможно, — ответил я. — А пока мы должны всеми силами беречь ваше здоровье.
Я покинул мистера Блэка для своих больных, чувствуя себя лучше и счастливее после этого краткого свидания с ним.
В чем тайна привлекательности для меня этого человека? Или это только значит, что я чувствую разницу между чистосердечным, ласковым обращением, с каким он допустил меня познакомиться с ним, и безжалостным отвращением и недоверием, с какими встречают меня другие люди? Или есть в нем действительно что-то, отвечающее стремлению моему к человеческому сочувствию, — стремлению, пережившему одиночество и гонение многих лет и делающемуся все сильнее и сильнее по мере того, как приближается время, когда я перестану и чувствовать, и терпеть? Как бесполезно задавать эти вопросы?! Мистер Блэк воскресил во мне интерес к жизни. Пусть будет довольно этого; к чему стараться понять, в чем состоит этот новый интерес?
Июня 17. Сегодня утром перед завтраком мистер Канди сообщил мне, что уезжает на две недели навестить своего друга на юге Англии. Он дал мне много специальных наставлений, бедняга, по поводу больных, как будто имел еще большую практику, бывшую у него до болезни.
Почта принесла мне ответ мисс Вериндер после отъезда мистера Канди.
Очаровательное письмо! Оно внушило мне самое высокое мнение о ней. Она не старается скрыть интереса, который чувствует к нашему предприятию, она говорит самым милым образом, что мое письмо убедило ее в невиновности мистера Блэка без малейшей надобности еще и доказывать это. Она даже упрекает себя — весьма неосновательно, бедняжка! — в том, что не разгадала в свое время тайны. Причина всех этих уверений кроется, очевидно, в великодушном желании поскорее загладить несправедливость, которую она невольно нанесла другому человеку. Ясно, что она не переставала его любить и во время их отчуждения. Во многих местах ее письма ее радость, что он заслуживает быть любимым, прорывается самым невинным образом сквозь принятые условности, вопреки сдержанности, какая требуется в письме к постороннему лицу. Возможно ли (спрашиваю я себя, читая это восхитительное письмо), что я единственный из всех людей на свете предназначен послужить средством к тому, чтобы опять соединить этих молодых людей? Мое личное счастье было растоптано, любовь моя была похищена. Неужели я доживу до того, чтобы видеть счастье других людей, устроенное моими руками, их возрожденную любовь?