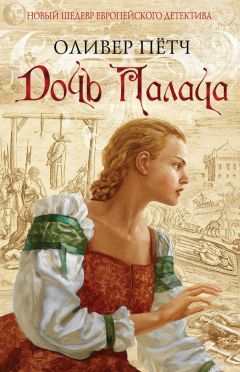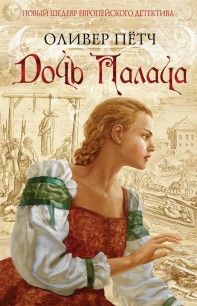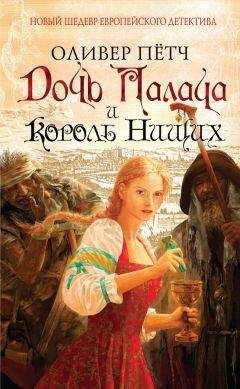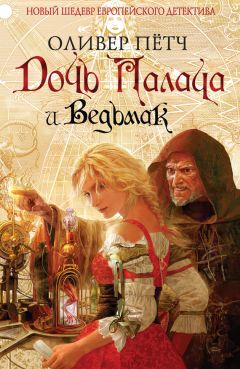Саймон Ливек - Демон воздуха
— А ты как думаешь? Император, конечно. Поздравляю тебя, братец! Тебе несказанно повезло — ведь ты умудрился обратить на себя внимание нашего владыки Монтесумы!
Глава 5
Брат мой поспешал, ведя нас обратно к Сердцу Мира — площади, на южной оконечности которой располагался императорский дворец. Обернуться и ответить на мои вопросы он даже не удосуживался. Он вообще следовал с таким видом, будто хотел поскорее отвязаться от данного ему неприятного поручения, и одновременно с этим хотел показать, что жалкое существо, плетущееся в хвосте под надзором его крепких молодцев, не имеет к нему никакого отношения.
«А чему тут удивляться?» — угрюмо думал я. Я слишком ясно ощущал разницу между наружностью Льва и моей собственной. Вот что, скажите на милость, увидел этот мускулистый воин в роскошном облачении, когда обратил на меня свой взор? Какого-то человечка неопределенной внешности — ни тебе роста, ни мышц, так, заурядная широкоскулая ацтекская рожа с прямым носом, завешенная темной шевелюрой с проседью на висках. На такого мой братец точно не взглянул бы во второй раз, не будь мы родней.
Но я хорошо знал, что его презрение имеет под собой куда более глубокие корни, нежели нежелание идти рядом с каким-то костлявым рабом в поношенной, заляпанной кровью накидке.
Мы со Львом выросли на одной из южных окраин города — в Тольтенко. Дом наш состоял из двух комнат и крошечного, обнесенного стенами дворика, большую часть которого занимала куполообразная баня. Тростниковую кровлю на этих беленых стенах трудно было разглядеть — до того она поросла мхом. Семья наша принадлежала к сословию простолюдинов. На прокорм зарабатывали женщины — занимались изготовлением бумаги. Бумажонка была так себе. Мать не могла похвастаться первосортным товаром, так как в долине не осталось ни одной дикорастущей смоковницы; древесина, привезенная издалека, была нам тоже не по карману; так что, как бы ни бились мать с сестрами, произвести им удавалось только дешевую грубую бумагу, которую люди покупали для сжигания в печах в качестве жертвоприношения.
Зато мне и моему старшему братцу, похоже, выпала совсем другая участь — нас ждали великие дела. Он с самого начала был настоящим воином — сильным, храбрым, яростным, стремительным в движениях, — ему явно было суждено добыть в бою множество знатных пленников, если только не пришлось бы ступить на «цветистый путь смерти» раньше. Я же не обладал ни одним из этих даров, зато был смышлен и проворен на язык — я мог уболтать кого угодно, избавляя нас от неприятностей, в которые мы попадали из-за горячности и бахвальства моего братца.
Однако у меня имелось и еще одно преимущество, с самого начала отделявшее меня от остальных братьев, — дата рождения. Я родился в первый день Смерти, в год Девятого Тростника. День этот считался настолько благоприятным, что я был определен для служения богам почти с самого рождения — благо в те времена жрецы принимали в свой круг простолюдинов. Как моему отцу удалось ублажить Верховного Жреца и убедить его принять меня в школу жрецов, мне так и не довелось узнать, потому что он никогда не рассказывал мне, чего ему это стоило, хотя намеков по этому поводу я наслушался от него вдоволь. Вероятно, это был один из счастливейших дней его жизни, когда, семью годами позже, одетый в обрезанную старенькую дедову накидку и в набедренную повязку, которую едва научился завязывать самостоятельно, я отправился жить среди холеных сынков богатеев в Дом Слез.
Когда меня выставили оттуда двадцать лет спустя, я вновь оказался дома.
Семья моя приняла меня обратно из чувства долга, но так и не простила — то ли за разочарование, то ли за позор, которым я покрыл ее, то ли за расходы, ушедшие на мое обучение. Дома ко мне относились с добротой, но и оскорблений я повидал немало — и унижений, и молчаливой холодности, — и когда меня не журили за то, что я плохой сын, плохой гребец-извозчик и плохой копальщик, я буквально погрязал в болоте жалости и упреков к самому себе.
Поэтому неудивительно, что очень скоро я удрал из родительского дома, найдя себе пристанище в мире торговцев и потребителей запрещенного для простых людей священного пойла.
В один прекрасный день мать послала меня на базар продать товар, но так и не увидела, чем закончилась эта торговля.
Даже в городе, в котором пьяное зелье считалось привилегией немногих, — жрецов, воинов, добывших в бою по четыре пленника, и стариков — и где, будучи пойман в пьяном виде, ты мог лишиться жизни, существовало множество мест, где все твои невзгоды и печали могли очень быстро улетучиться в обмен на несколько зерен какао-бобов. Как правило, это были безобидные на вид закутки на базарах или неприглядные домишки, теснящиеся вдоль каналов или у самой кромки озера. В одном из таких местечек малознакомый человек сунул мне в руки тыквенную бутыль, а, когда мы на пару опустошили ее, я отплатил ему тем же. В ту ночь я не вернулся домой.
Какое-то время я жил на прибрежных топях, собирая болотную пену для местных деляг, превращавших ее в деньги на базаре. Платили они мне самым омерзительным пойлом, какое я только видел в жизни. Так я существовал какое-то время, не торопясь влиться в бурлящий городской поток, который, в свою очередь, не спешил принять меня. И так могло происходить еще очень долго, если бы меня, буянящего, не отловили на улице в полнейшем опьянении с остатками пойла в тыквенной бутыли.
Меня арестовали за пьянство в общественном месте, а для бывшего жреца такая провинность обычно грозила одним-единственным наказанием — казнью на площади под названием Сердце Мира.
Я остался жить только благодаря брату, вступившемуся за меня перед судьями. Он сумел убедить их в том, что, хоть когда-то я и был жрецом, я так и остался простолюдином, а потому и наказывать меня следует как простолюдина. Представителя знати или действующего жреца забили бы палками до смерти. Брат меня избавил от подобной участи, но не от унижения — после ритуальной императорской речи перед толпой голову мою обрили.
Лев добился-таки для меня самого малого наказания и с явным удовольствием самолично привел в исполнение приговор. Это его руки тащили меня за волосы, а потом отрезали их, и в тот момент у меня возникло ощущение, что он охотно снял бы с меня скальп, если б ему позволили.
В тот момент я готов был умереть. Тут меня поймет каждый ацтек. Я так и не простил брата, так и не примирился с тем, что он спас мою жизнь, — как не простил мне он и вся моя семья, что я отравил жизнь им. Продавая себя в рабство, я искренне думал, будто отвернулся от них навсегда.
Даже на пороге ночи вход в императорский дворец и прилегающее к нему пространство кишели людьми. Здесь можно было встретить кого угодно — и явившегося с визитом владыку соседнего государства, разодетого в перья, золото и жадеит; и погрязших в тяжбе землевладельцев, орущих на весь двор; и заслуженных воинов, пришедших заявить о своем праве участвовать в дворцовых пирах; и послов по особым поручениям, задевавших своими пышными облачениями рядом стоящего соседа. Они образовывали яркую цветастую толпу, которая медленно и преимущественно молча двигалась ко входу, где их принимали или отсеивали специальные служители императора.
Не обращая на них внимания, мой брат шагал прямиком к высокой лестнице, ведущей в личные покои императора. Толпа расступалась перед нами, шарахаясь при виде увесистых дубинок.
Поступь брата и его свиты отдавалась гулким мерным эхом по двору, где повсюду были расставлены стражники, готовые применить свои мечи против незваного гостя. Я тогда еще подумал, что они отнеслись бы к нам совсем иначе, случись нам с братом поступить на такую службу, — уж тут военным историям и всяческому братанию не было бы конца.
— И много времени это займет? — Страх перед хозяином и перед тем, что он может сделать мне за опоздание, был ничтожен по сравнению с предвкушением встречи с императором. Говорят, будто один только взгляд на его лицо влек за собой смерть для простолюдина. И что это такое я совершил, чтобы он пожелал допросить меня лично? — Может, нам зайти с утра? Посмотри, в каком я ужасном виде! Даже кровь после жертвоприношения не успел отмыть…
— Заткнись! — рявкнул Лев, прежде чем скрыться в монаршей прихожей. Он вышел оттуда очень скоро, босой, без серег и совсем в другой одежде — простенькой и едва прикрывавшей колени.
— Гляди-ка, а ты все время жаловался, что тебе нечего надеть! — От страха мой бойкий язык проснулся.
— Ты же прекрасно знаешь, что я не имею права предстать перед императором в богатом одеянии. Если бы мне не пришлось гоняться весь вечер по городу, разыскивая тебя, я бы такую гадость не напялил.
Нас вызвал дворцовый распорядитель. Когда мы робко засеменили в покои императора, он настоятельно прошептал: