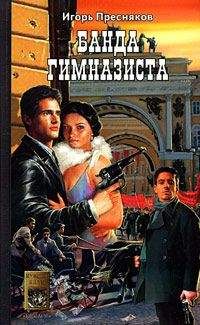Игорь Пресняков - Роковая награда
Он был причесан и побрит, облачен в запомнившуюся публике со дня премьеры белую тройку. Глаза Наума, как и положено при подобных церемониях, были закрыты, а лицо выражало покой и умиротворение. В ногах «покойного» находилась подушечка красного бархата, на которой, как итог жизни Меллера, лежала жестяная коробка из-под кинопленки с наклеенным ярлычком «Вандея». Коробка была пуста, куски же кинопленки, похожие на замороженных ужей, извивались по телу Наума. Были ли это обрывки последней картины «усопшего», оставалось загадкой.
У гроба двумя рядами стояли сподвижники Меллера. Лица их были скорбны и безутешны.
Такое помпезное и трагическое зрелище и застали вечером субботы друзья Наума. Служка из «фабзайцев» деликатно провожал очередного приглашенного к телу и после минуты молчания отводил гостя в сторону.
Андрей и Полина прибыли, когда в амбаре уже толпилось не меньше тридцати человек. Юный «жрец тела» попросил их пройти ко гробу. Андрей хмурился и перебирал в голове варианты ответа на мучивший его вопрос: «Что, черт возьми, происходит?» Полина еле сдерживала смех, но крепилась, изображая безутешное горе. Андрей посмотрел на «покойника» и с облегчением понял, что все происходящее – фарс: Меллер поглядывал на него из-под полуприкрытых век и даже чуточку улыбался.
Постояв у гроба, они отошли к скорбящим. Гости приветствовали их молчаливыми кивками. В глазах представителей богемы Андрей заметил неподдельное горе.
Вскоре последние приглашенные отстояли у гроба, и из глубины амбара раздался низкий звук трубы. Публика насторожилась. Появился Вихров в белых просторных одеждах, с рогом в руке. Он продудел еще раз и встал возле изголовья «покойного». Мальчик из «почетного караула» начал читать стихи Меллера:
– Летит тачанка, поднимая ветер.
Тот ветер нам милее тишины,
Он ближе нам всего на свете,
Роднее дома, матери, весны.
Он разметал теснящие оковы,
Он свет открыл нам яркий и святой.
Повел он нас дорогою свободы,
С которой не свернуть нам ввек с тобой!
Андрей понял, что декламировалось самое раннее из написанного Наумом – еще в годы гражданской. Чтец-жрец закончил, и эстафету приняла дебелая девица:
– Средь высоких хлебов я иду,
Радости песню душою пою.
Колосится пшеница, вдали – косогор.
Рядом – друг мой приятель, крестьянин Егор.
Русь родная, страдалица Русь!
Я руками груди твоей теплой коснусь,
Расскажу, как сражались твои сыновья,
Как в войне погибали враги и друзья.
Пролетели те годы, и смолкла труба,
Что звала нас на бой против злого врага.
Время мира настало, время счастья труда,
Но те годы лихие не забыть никогда.
Наливайся же силой, родная земля,
Радуй небом нас чистым без края и дна,
Рек могучих теченьем, фабричным гудком.
Мой тебе, Русь святая, глубокий поклон.
За девицей последовал рыжий паренек, и так далее, до последнего, двенадцатого служки, который читал стихотворение, написанное Меллером в уборной «Палладиума».
Присутствующие, очевидно, знали правила, и как только чтение было закончено, Самсиков подошел ко гробу и произнес речь о таланте Меллера. Затем оратор передал слово Лютому, тот – Кошелеву, он – Светлане Левенгауп, она – еще кому-то…
Когда очередь дошла до Рябинина, толпа уже вплотную окружала гроб. Андрей, не раздумывая, сказал просто:
– Наум, милый! Живи вечно, как и твои картины и стихи. У тебя – все впереди!
Полина, на которую после речи Андрея устремились взгляды гостей, ограничилась тем, что весьма театрально поцеловала Меллера в лоб. Не ожидавший такого развития событий Наум вскрикнул и сел во гробе. Служки подскочили к «телу», взяли Меллера за руки за ноги и вынесли из гроба. Наум стал у алтаря рядом с Вихровым. Резников собрал обрывки кинопленки и протянул «главному авгуру» [116]. Вихров бросил пленку в огонь жертвенного алтаря и провозгласил:
– Гори, непризнанное невеждами творенье! Гори, ибо уж лучше гореть тебе, чем быть поруганным темноумием и глупостью. Но верьте, братья, придет пора – и прольется свет на пребывающих во мраке бескультурья, и имя Наума Меллера засверкает как бесценный бриллиант! Придет!
– Придет!!! – прокричали разом десятки глоток.
– Грядет! – возопил Вихров и задул в трубу.
– Грядет!!! – отозвались эхом литераторы.
– На щит Меллера! – заорал Лютый, и множество рук потянулось к Науму.
Его схватили, подняли вверх и понесли вокруг алтаря. Процессия ликующих плакальщиков издавала зычные крики:
– Живи, Наум, и твое дело!
– Воскрес! Воскрес!
– Лазарь-Меллер!
– Даешь!
Рябинину крики не понравились, и он отошел к группе консервативно настроенных гостей. Он увидел, что из глубины амбара появился отряд молодежи, ведомый Вираковой и Венькой Ковальчуком. Они принесли столы и стулья и принялись расставлять их вдоль окон.
– Гляди-ка, и поминки будут, – Андрей указал Полине на приготовления.
– А ты как думал, товарищ Рябинин? И не просто поминки, а тризна с усопшим во главе стола! – рассмеялся стоявший рядом Кошелев.
Полина хлопала в ладоши и подпрыгивала, наблюдая, как Меллера потащили на второй круг. Наконец, его поставили на грешную землю, и все направились к столам. Вираковская команда уже подносила бутылки с водкой и закуски.
– Эге! Повидал бы этакий пир старина Землячкин! – с улыбкой покачал головой Кошелев.
О хозяине амбара робко напоминали только сиротливые мольберты, сдвинутые в дальний угол.
Гости расселись и начали выпивать и закусывать.
– …Приходит ко мне вчера Наум и спрашивает двадцать рублей, – слышался голос Кости Резникова. – Дай, говорит, непременно, на нужное дело прошу, не пожалеешь.
– И ко мне приходил, и у меня занимал, – закивали многие.
Полина терзала вилкой куриную ногу и поглядывала на приглашенных. Наклонившись к Андрею, она шепнула:
– Самое интересное кончилось, пора незаметно исчезать. Мне завтра вставать рано – поход назначен на семь утра.
Рябинин кивнул.
Через час запасы спиртного и закуски были уничтожены, и Меллер под одобрительные крики друзей предложил ехать в «Музы». Андрей и Полина, пользуясь случаем, улизнули.
Проводив Полину, Рябинин взглянул на часы – было только девять часов. Домой не хотелось, и он отправился в «Музы».
* * *Там веселье было в самом разгаре. Литераторы сдвинули столы в каре и, провозглашая тосты, напивались от души.
Андрей не успел усесться, как рядом очутилась Левенгауп.
– Вернулся? Молодец! А Полину домой спровадил? Опять молодец! Ей спать пора, не любит она наших гульбищ. Давай-ка выпьем… Товарищ Вихров! Будь любезен, переадресуй-ка мне чистую рюмку… Благодарствую, – Светлана говорила и манипулировала бутылкой, не выпуская папиросы из пухлых губ.
Они чокнулись и выпили «за упокой мятежной души Меллера». Левенгауп положила руку на плечо Рябинина и, заглядывая в глаза, спросила:
– Любишь мою Полинку, а? Говори прямо!
– Это вопрос сугубо личный, Светочка, – улыбнулся Андрей.
– Хе! – усмехнулась Левенгауп и перекатила папиросу в угол рта. – Хитрец ты, Андрей Николаич, ох, хитрец! Слушай-ка, что я тебе скажу, – она бросила окурок в пепельницу и зашептала Андрею на ухо. – Полли – девушка серьезная, с ней надобно любовь крутить настоящую. Коли полюбит она тебя – так на всю жизнь. Она, знаешь ли, однолюбка. Ха… Не то что мы, богемные бабы.
Андрей смотрел в ее строгие темно-серые глаза с дико расширенными зрачками, чувствовал горячее дыхание, прикосновение золотистых волос и ловил себя на мысли, что Светлана весьма соблазнительна.
Она представляла собой признанный в те годы тип красоты: среднего роста, стройная, но с хорошо развитой мускулатурой. Ее одежда и поведение были вызывающи и излучали неприкрытую сексуальность– она носила облегающие платья чуть ниже колен или длинные, чрезмерно открытые туники, короткую, с безумными «крысиными хвостами» стрижку.
Вдобавок природа одарила Светлану пикантно вздернутым носиком и большим чувственным ртом. Саму себя Левенгауп величала «радикальной интеллигенткой», вкладывая в это понятие крайнюю откровенность в выражении своих взглядов и желаний.
С подобной внешностью и поведением обычная мещанская гризетка выглядела бы пошлой и вульгарной. Светлана же была весьма образованна и умна. Она неплохо разбиралась в искусстве и по праву возглавляла литотдел «флагмана местной периодики» – «Губернских новостей».
Отношение окружающих к ней было весьма неоднозначным. Женщины зрелые ее не любили, считая чересчур развязной; молоденькие барышни боготворили, видя в ней то, чего не хватало им самим; коллеги уважали за острое перо; мужчины зачастую побаивались ее эпатажа, говоря, что любят в Левенгауп ум и «чисто человеческое». Шашков, завотделом культуры, благоволил к Светлане, называя ее «мадам Помпадур губернской литературы».