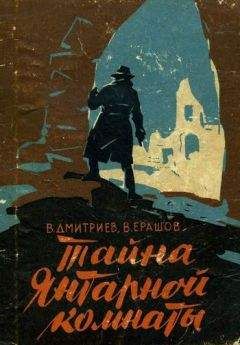Леонид Юзефович - Князь ветра
Из записок Солодовникова
Столица Халха-Монголии, Урга, раскинулась в долине реки Толы, на другом берегу которой вздымаются кряжи священной горы Богдо-ул. Этот последний отрог Хэнтейской гряды является общенациональным палладиумом, среди прочего защищающим город и от песчаных ветров из Гоби. Наряду с ним, но, разумеется, не соперничая с его лесистой громадой, над Ургой царят три ориентира: башнеобразный, с навершием в китайском стиле, храм Мижид Жанрайсиг, то есть Авалокитешвары Великомилосердного, в монастыре Гандан-Тэгчинлин; Златоверхий дворец Богдо-гэгэна Восьмого и обитый листовой медью купол Майдари-сум — соборного храма в честь будды Майдари, чтимого в качестве грядущего мессии. Вокруг лежит беспорядочное скопище юрт, изб, глиняных фанз, бревенчатых зимников бурятского типа, больших и малых кумирен, субурганов и прочего. Все это перемежается огородами местных китайцев, загонами для скота, дворами и двориками. Воздух пропитан миазмами боен, улицы завалены навозом. Всюду мелькают яркие одеяния лам и кипит торговля.
Столица Халхи представляет собой ни с чем не сравнимое и едва ли еще где-нибудь в мире существующее соединение монастыря и торжища, кочевья и богословской академии, современности и не просто средневековья, но самой темной архаики, таинственно примиренной с учением о восьмичленном пути и четырех благородных истинах. Европейцы называют этот город Ургой, но в действительности он имеет множество более или менее равноправных имен и, следовательно, по сути своей остаегся безымянным. Никакое единственное сочетание звуков не исчерпывает скрытый в нем смысл и не привязывает его к этой земле птиц и кочевников. Хотя Ургу почтительно именуют «Северной Лхасой», ее облик и характер это выражает немногим точнее, чем титул «Северная Венеция» применительно к Санкт-Петербургу. Зато с Петербургом ее объединяет не только их мнимая вторичность по отношению к настоящим Венеции и Лхасе. Помимо того, что три первые буквы в слове «Урга» являются тремя последними в слове «Петербург», эти две столицы роднит еще и странное созвучие предсказанных им судеб. Как известно, Петербургу суждено «быть пусту» и погрузиться на дно морское; точно так же есть пророчество, что и Урга, поглощенная степью, когда-нибудь исчезнет с лица земли, не оставив после себя ни одного из своих имен.
4
Горничная Наталья сидела в кухне, держа на коленях здоровенного кота с порванным в чердачных баталиях ухом. Она оказалась девицей толковой, но сказала не более того, что уже известно было от Будягина: после отъезда барыни ходила на рынок, вернулась, нашла барина мертвым и побежала в полицию.
— Кто у них бывал в последнее время? — Иван Дмитриевич решил для начала очертить круг хотя бы семейных знакомств.
— На днях Иван Сергеевич заезжал. Петр Францевич с Еленой Карловной…
— Стоп! У Ивана Сергеевича как фамилия?
— Тургенев. Тоже писатель.
— А Петр Францевич? Елена Карловна?
— Это муж и жена Довгайло. Он профессор в университете, приятель Николая Евгеньевича. У них квартира тут недалеко, в Караванной же. Чей дом, не знаю, но внизу табачная лавка. На вывеске амуры сигарки курят.
— А Зайцев Алексей Афанасьевич не бывал?
— Про такого не слыхала.
— Ладно. Еще кто?
— Зиночка с мужем. Это его, — кивнула Наталья в сторону кабинета, — племянница. Сирота, с четырнадцати лет при нем жила, а зимой вышла замуж за студента. Фамилия — Рогов, живут на Кирочной, в номерах Миллера. Я за ними соседскую горничную послала, должны скоро быть.
— Иван Дмитриевич! — заглядывая в кухню, позвал Гайпель. — Пойдемте-ка, я вам кое-что покажу.
Прошли в конец коридора, там Гайпель указал на дверь, предупредив, что заперто, смотреть нужно в замочную скважину. Иван Дмитриевич поворчал, но послушался.
Комната была освещена солнцем, пылинки плясали в лучах. За их радужным кордебалетом он не сразу разглядел у окна тонконогий столик, на каких ставят кадки с пальмами, а на столике — человеческий череп со спиленным теменем. Что это не муляж, доказывал застывший в носовом провале знакомый иероглиф, чей смысл — презрение ко всему тому мягкому, теплому и, в сущности, совершенно лишнему, что мешает проявиться истинным формам бытия.
— Открой, милая, — обратился Иван Дмитриевич к притихшей Наталье.
— Не могу, — заявила она. — Ключа нет.
— Кто же здесь убирает?
— Сама барыня. Это ее кабинет.
— И чем она занимается у себя в кабинете?
— На счетах считает.
— Что считает?
— Сколько за квартиру отдать, сколько с Килина получить и тому подобное.
— Кто такой Килин?
— Издатель Николая Евгеньевича.
— Понятно. Еще что она тут делает?
— Пишет.
— Что пишет?
— Что считает, то и пишет.
— А череп ей зачем?
Наталья молча повела плечом, затрудняясь увязать его с приходно-расходной книгой и статьями семейного бюджета. Пришлось повторить вопрос другим тоном, тогда лишь было отвечено, что барыня, если на картах гадает, ставит в этот череп зажженную свечу.
— Только на картах? — спросил Иван Дмитриевич.
— Не только.
— И кому она ворожит?
— Сама себе… Ну, — добавила Наталья под его испытующим взглядом, — барыни иногда приходят, которые интересуются.
— А вот и она сама, — сказал Гайпель, оборачиваясь на донесшийся из прихожей набатный звон дверного колокольчика.
— Нет, она бы так не звонила, — возразила Наталья. — Это Зиночка.
— Пускай пройдет к покойному, потом приведешь ее ко мне, -распорядился Иван Дмитриевич. — Если муж с ней, его тоже. Мы пока в кухне посидим.
Вернулись в кухню. Там он хищно покружил между столами, наконец сложил крылья и напал на свежий ситник, ветчину, чухонское масло. Гайпель смотрел на него с осуждением и, когда ему было сказано, чтобы присоединялся, надменно покачал головой.
— Ты что-нибудь знаешь про Бафомета? — с набитым ртом спросил Иван Дмитриевич. — Можешь сказать, чем он отличается от дьявола?
— Это одно из его имен, вот и все. А почему вы спрашиваете? Что-то я не замечал за вами интереса к подобным материям.
— Где ж тебе заметить! Вы вон с Будягиным револьвер на полу не заметили.
— Нет, серьезно. Откуда вам известно про Бафомета?
— А тебе?
— Как-никак я почти два года в университете проучился.
— Кстати, не знал там профессора Довгайло Петра Францевича? Горничная говорит, покойный с ним приятельствовал.
— Знаком, конечно, не был, но знаю, что это специалист по буддизму, этнограф. Известен своими экспедициями в Монголию.
— В Монголию?
— А что? Вы считаете ее недостойной изучения?
В коридоре послышались шаги. Вошли двое — большеротая смуглая девушка и молодой человек в университетской тужурке, длиннорукий, с угреватым честным лицом и взглядом исподлобья. Иван Дмитриевич хорошо знал этот тип столичного студента: идеалист, бессребреник, за миллион муху не убьет, но из идейных соображений может перерезать глотку родной матери.
— Рогов, мой муж, — представила его Зиночка.
Скоро у Ивана Дмитриевича сложилось впечатление, что смерть дяди потрясла ее не так сильно, как Рогова. На обращенные к нему реплики тот отвечал односложно, деревянным голосом, ненадолго выходя из прострации, чтобы тут же опять в нее погрузиться. Лишь когда разговор коснулся отношений между Каменским и Довгайло и Зиночка упомянула, что ее муж — любимый ученик Петра Францевича, а Иван Дмитриевич любезно осведомился о теме его ученых занятий, Рогов с маниакальной обстоятельностью стал рассказывать, что изучает историю, религию и этнографию монголов, перевел, в частности, на русский язык «Драгоценное зерцало сокровенной мудрости», памятник монгольской общественной мысли эпохи Абатай-хана [2].
— Что за сокровенная мудрость? Что-нибудь мистическое? — оживился Иван Дмитриевич, но был разочарован, узнав, что мудрость эта включает правила ухода за скотом, нормы кочевого этикета и тому подобное.
— Абатай-хан, — пояснил Рогов, — был первым из князей Халхи, кто сделал буддизм государственной религией. При нем возникла опасность забвения или даже насильственного искоренения древних монгольских обычаев, поэтому ревнители старины попытались переосмыслить их в духе буддийских заповедей.
— Господину Путилину это неинтересно, — прервала мужа Зиночка. — Знаете, господин Путилин, — продолжала она, — мне вспоминается один странный случай. Возможно, он имеет какое-то отношение к убийству дяди, если, конечно, это не самоубийство.
— Думаю, что нет, — сказал Иван Дмитриевич.
— Это произошло осенью. У дяди тогда было плохо с деньгами, его ругали в газетах, и дома что-то не ладилось. В общем, все сошлось, он запил. Днем еще терпел, а как вечер, темнеть начинает, тут уж не удержишь. Мы были в отчаянии, наконец тетя решила вывезти его за город, чтобы оградить от собутыльников из литературной богемы. Уже в сентябре она задешево сняла дачу на взморье, но сама туда не поехала, присматривать за дядей поручено было мне и Наталье. Первые дни он не пил, рано ложился спать, но в одну из ночей меня разбудил его громкий голос. Он стоял в палисаднике у ворот и громко говорил кому-то: «Уходи! Добром тебя прошу, уходи!»