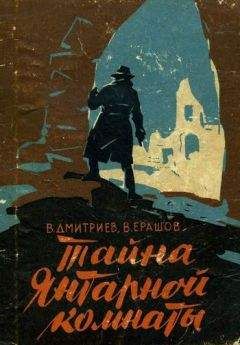Леонид Юзефович - Князь ветра
Спустя неделю после экспедиции за продуктами Сафронов остановился перед афищной тумбой с расклеенными на ней «Известиями ЦИК». Здесь он прочел, что в Петроград прибыла делегация от «близкой к трудящимся кочевникам части монгольского ламства, стоящей на позициях революционного буддизма». Как сообщалось, делегаты обратились к правительству Советской России с просьбой о помощи в борьбе против «реакционной китайской военщины, которая в лице генералов Сюй Шичжена и Го Сунлина оккупировала восточные районы Халхи и вынашивает план похода на Ургу с целью ликвидировать автономию Внешней Монголии».
Чуть ниже помещено было объявление о том, что члены делегации развернули передвижной агитпункт на Каменпоостровском проспекте возле цирка «Модерн», где разъясняют свою платформу всем желающим.
На следующий день Сафронов еще издали заметил там красную, с черным знаком «суувастик» посередине, шелковую хоругвь на шесте. Это, по-видимому, было знамя революционного буддизма. Под ним располагался обыкновенный базарный лоток с фанерным навесом на четырех перевитых разноцветными лентами и украшенных бумажными цветами столбиках. Слева на прилавке восседал внушительных размеров Будда Шакьямуни из посеребренной бронзы, не литой, впрочем, а формованный, судя по звуку, с каким он противостоял порывам ветра с залива.
Другая половина лотка была занавешена разрисованной от руки клеенкой, растянутой на гвоздиках между правой передней стойкой навеса и прилавком со стороны проспекта. Во всю ее длину художник изобразил компанию из десяти-двенадцати чинно пирующих монголов, сидящих в ряд, как на банкете, лицом.к публике. Сафронов обратил внимание, что по мере удаления от центра они теряют в росте и массе, зато выигрывают в индивидуальности черт, хотя вообще-то манера изображения была самая примитивная. Пропорции не соблюдались, тени не накладывались, как если бы свет падал равномерно из каждой точки окружающего пространства, любой контур заполнялся только одним цветом, но чем дольше Сафронов рассматривал эту клеенку, тем сильнее его волновала необычайная яркость красок. Все анатомические огрехи меркли в их сиянии, а способность различать полутона и оттенки не казалась таким уж несомненным достоинством.
Место пиршества представляло собой распахнутый навстречу зрителю, как театральная декорация, великолепный шатер, освещенный солнцем и луной-отцом и матерью монгольского народа, задрапированный свисающими сверху полотнищами желтой и красной материи, наполненный золотым туманом. Он свидетельствовал о незримом присутствии божества или о божественности самих пирующих. Они важно сидели на подушках, поджав под себя ступни, не глядя друг на друга. На низких столиках перед ними Сафронов видел чаши с кумысом и хорзой, чашки с чаем, блюда дымящегося мяса, стопки печенья, сушеный сыр, изюм, финики, орехи.
На тротуаре рядом с лотком неподвижно стояли трое лам в традиционной одежде и прохаживался матросик с винтовкой, приставленный к ним, должно быть, в качестве охраны. Четвертый член делегации, средних лет монгол или, скорее, бурят, к революционному ламству явно не принадлежавший, поскольку был в люстриновом пиджаке и в сорочке с галстуком, без малейшего акцента объяснял кучке зевак, что на картине изображены величайшие национальные герои Монголии.
— В центре, — говорил он, элегантно показывая карандашом, — Чингисхан, справа от него Хубилай, дальше Хулагу, Абатай…
— Товарищ Зудин! — окликнул его матросик, чтобы спросить, который час, и Сафронов мгновенно вспомнил это имя.
— По левую руку от Чингисхана, — продолжил Зудин, — вы видите джунгарского Амурсану, за ним Ундур-гэгэн Дзанабадзар, Тогтохо-гун, Максаржав, Найдан-ван.
— Где? — встрепенулся Сафронов.
— Простите, о ком вы?
— О Найдан-ване.
— Вот он, — указал Зудин на крайнюю слева фигуру в шапочке с двумя павлиньими перьями.
Тем временем ламы начали петь, аккомпанируя себе на маленьких колокольчиках. Их голоса и мелодичный звон бронзы приятно контрастировали с гулом толпы возле цирка «Модерн». Там шел очередной митинг.
— Они молятся? — спросил Сафронов.
— Да.
— И о чем?
— О лучшей жизни для всех нас. Если хотите, могу перевести, — предложил Зудин.
В его переводе пели они приблизительно следующее:..
«Да укротится всякое зло, поставляющее преграды телу, духу и слову о муках рождения, болезни, старости и смерти.
Да укротится всякое зло, поставляющее преграды добродетели, приносящее страдания и беды, во главе которых идут болезни людей этого мира, болезни скота, споры, распри и смуты раздоров.
Да укротится всякое зло, поставляющее преграды росту семян и корней, накоплению сока плодов и полевых растений.
Да укротится всякое зло, поставляющее преграды доброй славе, обилию потомства, друзей, скота и домашнего скарба.
Да укротится всякое зло, поставляющее преграды увеличению молока, масла и творога…»
Было холодно, дул пронизывающий ветер, жизнь шла к концу, но Сафронов слушал и улыбался, вспоминая, как целый месяц завтракал творогом со сметаной в доме на берегу Волхова. Иван Дмитриевич любил творог.