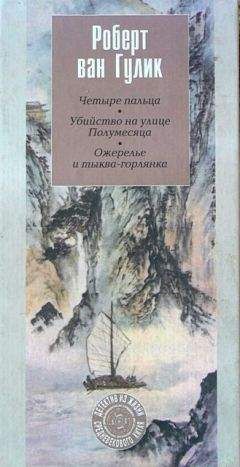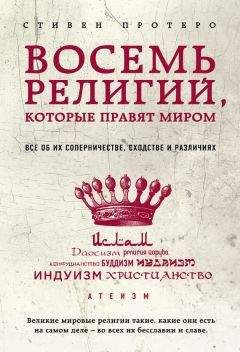Дарья Плещеева - Число Приапа
Кнаге отвернулся. Он понимал, что надо бежать без оглядки. Но белокурая красавица, очень довольная и оживленная, окликнула его.
– Сейчас будет самое занятное. Бери картину, мой любимый, расстилай на траве. Вайсберг, достань из мешка готовальню. Сейчас мы узнаем, где на самом деле спрятан клад. Ровнее раскладывай.
Письмо фон Нейланда было при ней. Вильгельм-Карл зажег фонарь, который принес, и Кнаге, сев на траву, открыл готовальню.
– Откладывай от верхнего края картины восемь дюймов и сорок две сотых дюйма, – велела Клара-Иоганна.
– Как же это возможно?
– Как получится. Слева и справа откладывай. Вильгельм-Карл, дай ему нож. Проведи прямую линию ножом. Вайсберг, возьми фонарь, держи его пониже.
Кнаге не сразу взял нож, которым только что убили человека – пусть даже такого скверного и никчемного.
На едва видной линии он по приказу Клары-Иоганны отложил почти четыре дюйма.
– Вот тут и зарыты сокровища, – сказала она, глядя на точку, в которую вонзилось острие. – Вот что он угадал. Вот для чего во всем этом деле замешана картина. Но что может придумать один – то придумает и другой. Идем!
Они пришли к рощице. Точка на карте соответствовала приметной березе – у нее от одного корня поднимались два ствола.
– Здесь, – решила Клара-Иоганна. – Ну-ка, Вильгельм-Карл, потычь лопатой вокруг березы. Сокровища закопаны недавно, земля еще не успела слежаться и затвердеть, растения еще не прошили ее корнями.
Мясницкий подручный выполнил приказ, но подходящего места не обнаружил.
Кнаге опять развернул картину и как можно более точно установил, где пересекаются линии. Отмерить четыре десятых дюйма по линейке вроде не очень сложно, однако сорок две сотых – и при хорошем освещении затруднительно. Он прибавил к восьми дюймам, с которыми не возникло затруднений, эти сорок две сотых, еще раз отмерил расстояние с каждой стороны и получил новую линию. Хотя она проходила почти вплотную к прежней, но оказалась чуть ниже и соприкасалась с верхушкой пригорка.
– Ну вот, – сказала невеста. – Теперь откладывай три и девяносто три сотых дюйма. А не четыре! Даже разница в толщину волоса имеет значение!
Новое место оказалось в двадцати шагах от березы. Пошли копать туда. Место было возле самой тропинки – то есть уж с одной-то стороны оно было ограничено утоптанной и нетронутой землей. Карл-Вильгельм с Вайсбергом разрыли обочину, Кнаге им светил.
Никаких следов клада не обнаружили.
– Что же это значит? – спросила Клара-Иоганна. – У нас в руках и картина, и ключ к ней. И ничего не получается. В чем дело?
Оказалось, Вайсберг как-то имел дело с художником.
– Этот дармоед взялся нарисовать семейный портрет бургомистра Тизенгаузена. Нужно было срисовать с хорошей, красивой картины. Он сделал свою картину мрачнее преисподней, а потом разругался с Тизенгаузеном. Тот купил прекрасную раму, но эта рама была чуть больше необходимого, и дармоеду пришлось пририсовывать с краев холста стены и потолок. Может, тут – такая же беда? – спросил он. – И потому мы не с нужного места откладываем эти дюймы?
Кнаге ахнул.
– Ну, мой любимый, говори правду! – приказала Клара-Иоганна.
– Я не виноват! Фон Альшванг приказал сделать копию – я сделал! – как можно убедительнее заговорил Кнаге. – Он сам принес холсты, отличные холсты! И он сам принес откуда-то рамы! Я должен был сообразовываться с размером рамы! Поэтому вид из окна спальни фон Нейланда получился шире и выше! Вайсберг прав – я расширял с боков! Я же не знал, в чем дело! Если бы сказали – делай в точности!.. А не сказали, да еще рамы принесли!..
– Намного расширил? – спросила невеста.
Кнаге попытался показать пальцами размер.
– Я же три картины копировал, и каждую должен был приспособить к рамам… вот столько примерно…
– Болван! Скотина! – воскликнула Клара-Иоганна. – Из-за тебя все рухнуло, из-за тебя! Разница, может, в полдюйма, в ничтожные полдюйма! А на деле – это разница в четверть мили, и имеет значение сотая доля дюйма! Будь ты проклят, чертов мазила! Пропади все пропадом!
Она разорвала письмо фон Нейланда, бросила в бесполезную яму и быстро пошла прочь.
Вайсберг с Вильгельмом-Карлом переглянулись, кое-как закидали яму и побежали следом за Кларой-Иоганной.
На Кнаге никто даже не посмотрел.
Он уселся прямо на тропинку и тяжко вздохнул. Невеста была права – все рухнуло. И она теперь не захочет выходить замуж за человека, который разрушил ее мечту о настоящем богатстве.
Нужно было забрать во Фрауэнбурге свое имущество и убираться прочь. Прав был фон Нейланд, велевший идти в Либаву и плыть в Любек, прав, ох как прав!
Теперь оставалось только сожалеть о невозможном.
Курляндия, наши дни
Нетерпение было так велико, что Полищук и Хинценберг не усидели в кафе – они пошли ждать пепельно-серый польский джип у полицейского управления. Тоня была вынуждена стоять там с ними и слушай какие-то полицейские байки, которыми следователь развлекал антиквара.
Наконец джип с польским номером появился.
Он так полз по Лиепайской, что буквально кричал всем и каждому: панове, я не хочу в полицию, я ее боюсь!
Полищук подбежал к остановившемуся джипу. Правая дверца открылась, вышел немолодой мужчина, которому следовало бы побриться недели две назад и не зарастать седой щетиной, сказал Полищуку несколько слов, и Тоня увидела – ему удалось удивить следователя.
– Тонечка! – позвал Полищук. – Без вас не обойтись. Поляк, который за рулем, не говорит по-русски, а по-латышски – тем более.
– Но я не знаю польского.
– Вы знаете английский.
Покинув водительское место, вышел на улицу и предстал перед Тоней мужчина, который мог любую женщину ввергнуть в комплекс неполноценности: он был фантастически красив. Разве что слегка полноват, самую чуточку именно так, как нравится худощавым девушкам, вроде Тони. А лицо было правильное, гладкое, загорелое, белозубое, темноглазое – лицо благополучного тридцатилетнего мужчины, только очень напуганного.
– Я знаю, что мы совершили правонарушение, и я готов заплатить штраф! – первым делом заявил он, а Тоня перевела.
– И о штрафе тоже поговорим, – ответил Полищук. – Следуйте за мной.
– Я в этом деле вообше ни при чем, – сказал по-латышски седобородый мужчина. – Я здешний, я им подрядился помогать, землю копать, продукты доставать. Я только исполнитель.
– И с исполнителем поговорим.
Оставив седобородого в коридоре под присмотром антиквара, Полищук завел поляка в маленький кабинет и пригласил туда Тоню.
– Итак, ваше имя?
– Тадеуш Яблонский.
– Год рождения, местожительство, гражданство?
Поляк ответил на все анкетные вопросы. Отвечая, он настолько освоился, что даже стал кокетничать с Тоней.
– Не говорите мне «мистер Яблонский», – попросил он. – От такого обращения мне становится не по себе.
– А как же иначе, мистер Яблонский?
– Можно – просто Тадеуш. Можно – Тадек.
Полищук знал английский, но в разумных пределах. Он понял, о чем речь, и усмехнулся.
– Зови хоть горшком, только в печку не ставь, – сказал он Тоне. – По-моему, он уже не в том возрасте, чтобы называть себя Тадеком.
– Ему виднее, – отрубила Тоня. Странным образом чуть ли не все, что говорил Полищук, вызывало у нее желание противоречить – очень неожиданное для нее желание.
Перешли к поискам клада.
Новое поколение поляков выбрало английский язык, и по-английски Тадек трещал очень быстро и правильно. Тоня едва успевала переводить.
– Как к вам попала картина? – спросил Полищук.
– Да забирайте вы эту картину! Я уже не рад, что с ней связался, – ответил Тадек. – Лучше бы я ее не находил! Холера это, а не картина! Хоть бы она сгорела, а не сбивала с толку порядочных людей!
– Как к вам попала картина? – повторил Полищук.
– Я нашел ее в частной коллекции.
– А ключ к картине к вам как попал?
– Вот! Вот с этого и нужно начинать! – воскликнул Тадек. – Я должен был сразу сказать Владу – иди ты с этими своими бумажками к черту. С лестницы должен был его спустить. Он сбил меня с толку. В полицию должен был его отвести!
– За что? – выслушав перевод, спросил Полищук.
– За то, что подсовывает добрым людям какие-то ворованные бумажки!
Понемногу поляк рассказал, более или менее связно, такую историю.
Будучи в Лиепае по делам какого-то общества польской культуры, Тадеуш Яблонский познакомился с латвийским поляком Владимиром Вишневским. Они вместе пили, потом оказались на квартире у каких-то веселых сестричек, потом пан Влодзимеж поехал к пану Тадеушу в Варшаву, там тоже пили, тоже ходили в гости к жизнерадостным паненкам, словом, образовалась ни к чему не обязывающая и очень приятная дружба.
Влад Вишневский имел от роду тридцать восемь лет, а колобродил по случаю свободы – он развелся с женой, которую вспоминал только неприличными словами. Брак был бездетным, и Влад после гостеваний у легкомысленных девиц вдруг задумался о потомстве. Мужчина должен успеть не только зачать, но и вырастить сына, а в шестьдесят лет нянчиться с младенцем – это, кроме всего прочего, еще и обременительно.