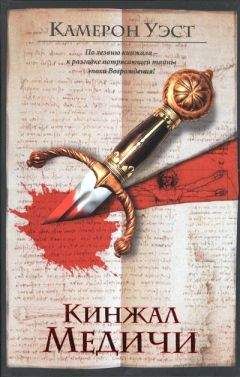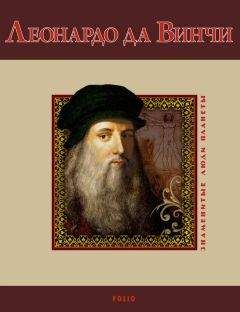Джинн Калогридис - Я, Мона Лиза
Он взял в руки уголек, сделанный, как он объяснил, из кусочка ивы, который поджаривали в печи, и начал рисовать с удивительной скоростью.
Помолчав минуту или две, я спросила:
— И как же вы запомнили с такой легкостью черты моего лица, хотя мы виделись всего лишь раз? Тот первый набросок был весьма приблизителен. И все же рисунок, который вы прислали… Вы запомнили все до мельчайших подробностей.
Леонардо не отвлекался от работы и отвечал рассеянно:
— Память можно натренировать. Если мне нужно запомнить лицо, я изучаю его очень внимательно, а затем ночью, когда лежу без сна, припоминаю каждую черточку, одну за другой.
Я бы ни за что не запомнила их так детально!
— Это очень просто, в самом деле. Возьмем, к примеру, носы: существует всего десять типов профилей.
— Десять типов! — Я хохотнула.
Он в ответ слегка приподнял бровь, и я сразу подавила улыбку и попыталась, расслабив лицо, придать ему прежнее выражение.
— Десять типов профилей: прямой, заостренный, орлиный, плоский, округлый, выступающий в верхней половине или в нижней. Если запомнить эти типы наизусть, то у вас будет целый реестр, откуда можно черпать по мере необходимости.
— Поразительно.
— Кроме того, существуют, разумеется, одиннадцать разных типов носов, если смотреть на них анфас. Ровные носы, утолщенные в середине, или утолщенные на переносице, или с утолщенным кончиком… Но вам, наверное, это скучно.
— Вовсе нет. А как же ноздри?
— Они составляют отдельную категорию, мадонна. — Я едва сумела подавить улыбку. Немного погодя я заговорила о том, что меня волновало сильнее.
— Вы сейчас живете во дворце Медичи. Значит, вы очень близки этому семейству.
— Настолько, насколько позволено чужаку.
— А как поживают… его сыновья?
Над переносицей Леонардо появилась легкая морщинка.
— Джованни, как всегда, превосходно. Мир может рухнуть — а ему все равно. Что касается Пьеро… По-моему, он только сейчас понял всю серьезность ситуации. Ему годами твердили со всех сторон, что однажды, когда отец уйдет из жизни, он займет его место. Теперь это для него стало реальностью.
— А Джулиано? — излишне поспешно поинтересовалась я.
Леонардо слегка потупился, и на его губах появилась едва заметная печальная улыбка.
— Джулиано скорбит. Для Лоренцо не было никого дороже, чем он.
— Джулиано прекрасный человек.
Лицо художника смягчилось, и он замер на секунду, перестав рисовать.
— Это так, — заговорил он оживленно, — Джулиано был очень доволен, когда услышал, что я хочу выполнить заказ.
— Вот как?
Леонардо улыбнулся, заметив мое волнение, которое я не сумела скрыть.
— Да. Мне кажется, он очень ценит вашу дружбу. — Я раскраснелась, не в силах вымолвить ни слова.
— Отлично! — сказал он, и уголек в его руке вновь запорхал над листом бумаги. — Продолжайте думать об этом. Вот так…
Я сидела в тревожном молчании. Он долго смотрел на меня и рисовал, потом снова смотрел… Видимо, ему в голову пришла какая-то тревожная мысль, потому что он вспыхнул и потупился. Потом устремил невидящий взгляд на рисунок.
Но он все-таки что-то разглядел. Разглядел во мне. И это не давало ему покоя. Он тщательно избегал смотреть на меня, боясь, что его взгляд выдаст тайну. В конце концов, он взял себя в руки и продолжил рисовать, пока Дзалумма не сказала:
— Пора.
Я поднялась и отряхнула юбки.
— Когда я снова вас увижу?
— Не знаю, — ответил художник. — Завтра я должен вернуться в Милан. Быть может, к следующей нашей встрече я подготовлю эскиз, который меня удовлетворит. Тогда перенесу его на доску и приступлю собственно к картине. — Он помрачнел. — Теперь, когда Лоренцо нет, для его сыновей наступают тяжелые времена. Если так пойдет и дальше, то считаться другом семьи Медичи будет довольно опасно. Если вы думаете заключить брак… — Он смутился оттого, что позволил себе сказать лишнее, и замолк.
Я нахмурилась и почувствовала, как щеки залил румянец. К чему он это сказал? Неужели подумал, что Джулиано меня интересует из личных корыстных целей, из соображений престижа?
— Мне пора, — сказала я и повернулась, чтобы уйти.
Но тут меня остановила одна мысль. Обернувшись, я решительно спросила:
— Почему вы хотите рисовать меня? — Теперь наступила его очередь волноваться.
— Мне казалось, я уже ответил на этот вопрос.
— Вы ведь взялись за это не из-за денег. Так зачем?
Он открыл, было, рот, чтобы ответить, но тут же передумал. А когда, наконец, подобрал слова, то произнес:
— Возможно, я делаю это для Джулиано. Возможно, для себя.
«Моя возлюбленная Лиза!
Я пишу Вам по двум причинам: во-первых, чтобы сообщить о своем намерении умолить брата Пьеро позволить мне просить Вашей руки у мессера Антонио. Разумеется, после того, как закончится траур.
А теперь я могу официально попросить у Вас прощения за то, что не смог появиться в назначенный час на нашем месте. Я знаю, как это, должно быть, Вас больно ранило и, возможно, даже заставило думать, будто Вы меня больше не интересуете. Все совсем не так, как раз наоборот.
Во-вторых, я должен Вас поблагодарить. Ваши слова отцу — обо всем хорошем, что он сделал для Флоренции и ее народа, — были полны сострадания и мудрости и глубоко тронули его. Никакая дочь не смогла бы быть добрее или так утешить его.
Очень немногие думали об истинных чувствах отца, хотя он даже на смертном одре думал только о других. Когда он понял, что умирает, то позвал самых дорогих своих друзей и сделал все, чтобы утешить их, вместо того чтобы позволить им утешить себя.
Он даже проявил любезность, разрешив Джованни Пико привести к нему в спальню фра Джироламо. Да простит меня Господь, но я ничего не могу с собой поделать — я ненавижу монаха, который злословил по поводу отца за его хорошие дела. Отец покровительствовал очень многим художникам, поддерживал Платоновскую академию, развлекал бедняков шествиями и цирками — по словам Савонаролы, все это язычество, за которое гореть отцу в аду, если он не раскается. Знай, я раньше, что он намерен высказать такие обвинения, я бы ни за что не позволил ему повидаться с отцом.
Уродливый, тщедушный человечек все время повторял свои чудовищные обвинения, заклиная отца: «Раскайся за всю кровь, пролитую тобой!»
В ответ отец повернулся лицом к стене. Только моя настойчивость и помощь нескольких стражников сумели избавить отца от присутствия монаха. Как он мог допустить такую жестокость — назвать убийцей моего отца, человека, который если и держал в руках оружие, то только для самозащиты?
Фра Джироламо повернулся ко мне и сказал: «Ты бы тоже поступил мудро, если бы раскаялся и упал на колени, ибо ваше высокомерие — твое и твоих братьев — все равно вскоре поставит вас на колени».
В эту минуту меня позвал отец, и я поспешил к нему. Он начал говорить несвязно. Все время задавал один и тот же вопрос: «Прошу тебя! Прошу, скажи, где он?» Я ответил, что не знаю, о ком он говорит, но если он назовет мне имя, я тут же приведу к нему этого человека, но он только стонал и повторял: «Джулиано, после стольких лет я тебя подвел!»
Вскоре отцу стало хуже, и врачи попытались дать ему еще одно снадобье, которое он не смог проглотить. Он забылся беспокойным сном, а когда очнулся, то уже не понимал, где находится, и совсем ослаб. Он много раз звал меня, но не утешился тем, что я рядом и держу его за руку. Все мои попытки успокоить отца были безуспешны. А потом он затих, и было слышно лишь, как он шумно дышит. Казалось, отец к чему-то прислушивался.
Спустя несколько минут он, видимо, услышал то, что хотел, потому что улыбнулся и прошептал с огромной радостью: «Джулиано, это ты. Слава Богу, ты доплыл до берега».
Очень скоро он отошел в мир иной.
И теперь меня терзает и не дает мне покоя одно подозрение. Я пришел к выводу, что лекарства, прописанные лекарем в последние несколько месяцев жизни отца, только ухудшили его состояние.
Полагаю, мой разум не затуманен горем. Я подозреваю, что существовал заговор с целью ускорить смерть отца, а может, даже вызвать ее. Я утвердился в своих выводах, узнав, что личный лекарь Медичи, Пьер Леоне, утонул в колодце, где и был найден после смерти отца. Все говорят, что это самоубийство, вызванное кончиной пациента.
В синьории провели специальное голосование, позволившее моему брату, Пьеро, возложить на себя обязанности отца, хотя ему всего двадцать. Сейчас Пьеро пребывает в сильном расстройстве и неуверенности, поэтому я не могу пока обращаться к нему по поводу женитьбы. В такое время я должен его поддерживать, а не отвлекать на посторонние дела.
Мое горе усугубляет то, что я не сумел поговорить с Вами на похоронах моего отца, и то, что так и не смог встретиться с Вами у Сан-Лоренцо.