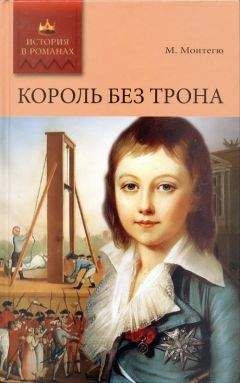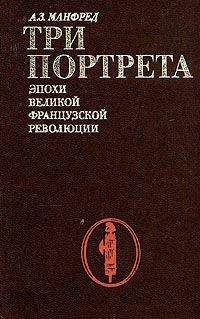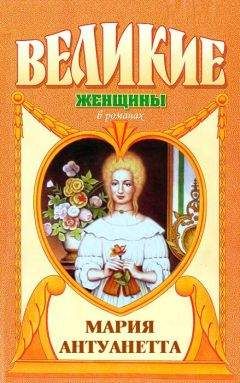Кристоф Доннер - Король без завтрашнего дня
«У нас имеется проект, отчасти похожий на тот, что мы составляли в июне, но он еще не разработан окончательно, — писала ему королева. — Если он осуществится, это будет примерно 15–20 ноября; но если мы не сможем уехать в это время, то зимой не будем ничего предпринимать… Сейчас все довольно спокойно, но это спокойствие держится на волоске, и народ, как всегда, готов на любые зверства. Говорят, что он за нас, но я в это не верю — во всяком случае, он не за меня».
Мария-Антуанетта пишет, что ни на минуту не принадлежит сама себе, отдавая все свое время аудиенциям, письмам и детям, и замечает: «…но что касается последнего, это мое единственное счастье…» — а дальше все зачеркнуто, скорее всего, потомками Ферзена. За этим легендарным вымарыванием можно вообразить признания самые откровенные в своей интимности или, напротив, самые нежные и добродетельные — искушение апокрифиста велико, — но в конечном счете самое скандальное — именно эти долгие и тщательные зачеркивания, которые оставляют слова навеки укрытыми тайной. Они как те усы, подрисовываемые шаловливыми детьми торговцев картинами на полотнах великих мастеров, что становятся частью шедевра и попадают во все каталоги живописи. Стереть их — значит обеднить историю искусства.
Читая письма Марии-Антуанетты, можно заметить, как ею овладевает все большее отчаяние: «Французы жестоки — и на одной, и на другой стороне». Имеется в виду «по обе стороны границы». Она меряет и революционеров, и эмигрантов одной и той же меркой. Как выбрать лучшее между чумой и холерой, как устраивать будущее в случае возвращения братьев короля или окончательной победы республиканцев?
«Понимаете ли вы мое положение и ту роль, которую я вынуждена играть изо дня в день? Иногда я не узнаю собственный голос и некоторое время не могу понять: действительно ли это я говорю?»
Она тоже рассчитывает выиграть время, чтобы получить реванш:
«Какое будет счастье, если в один прекрасный день я окажусь достаточно сильной, чтобы показать всем этим нищебродам, что я им не какая-нибудь пустышка!»
Тем временем готовится война. Война против Германии, поскольку революционеры считают, что у этой страны нет сил, чтобы защищаться.
«Глупцы!»
В какой-то момент королева начинает паниковать, уже ничего не понимая в происходящем: «К чему эта внезапная декларация императора? Отчего обо мне больше не вспоминают ни в Вене, ни даже в Брюсселе? Я теряюсь… Нужно, чтобы император встал во главе других могущественных сил, являя собой самую надежную из них, и тогда, уверяю вас, здесь все затрепещут!»
Ферзен решил ехать в Париж. Он пересек границу с риском для жизни — поскольку был в розыске как организатор «похищения» короля.
14 февраля 1792 года ему удалось тайно проникнуть во дворец.
Увидев его, Нормандец тут же подумал о новом побеге и бросился ему на шею.
— Вы приехали меня забрать?
— Месье… я привез вам игру. Она шведская, но вы в ней быстро разберетесь.
— Это очень мило с вашей стороны, месье, но я больше не играю в игрушки. Я отдам игру Марии-Терезе… Аббат мне говорил, что в Швеции еще холоднее, чем здесь!
— Это правда.
— Там сейчас снег?
— Да.
— У нас тоже был снег, но быстро растаял. Мы слепили снеговика и надели на него шляпу, а потом отрубили ему голову.
— Королева мне писала, как она гордится вами, месье, вашими успехами и вашим небывалым мужеством.
— Почему же вам не удалось нас спасти?
— Это главная печаль всей моей жизни…
— Папины братья приедут нас освободить?
— Да.
— Они обещали…
— …и вы будете свободны. Вы будете править величайшим из всех королевств. Вы восстановите мир в Европе. Будете всюду путешествовать…
— И по Швеции тоже?
— Да, мы проедем по ее снежным равнинам, до самых ледников.
— А там есть волки?
— Да, они великолепны. Белые, серые…
— Лучше уж поехать в Рим. Это город Ромула и Рема. Волки там добрые, они кормят сирот, да?
— Рим в самом деле очень красивый город.
— И там живет Папа.
— Да.
— Месье… скажите, вы мой отец?
— Что?
— Вы мой отец?
— От кого вы услышали эту клевету?
— Так написано в газете папаши Дюшена.
— Не верьте этим гнусностям. Их пишут только для того, чтобы опорочить вашу матушку. Это ложь, вы меня слышите?
— Я рад, что вы вернулись, Ферзен. Я вас очень люблю, но папу я люблю больше.
— Это лучший человек на свете!
— Он сейчас грустный, из-за волков…
Появилась Мария-Антуанетта. Ферзен поклонился, и королева протянула к нему дрожащие руки. Он поцеловал их. Нормандец наблюдал за этой сценой.
— Вам нужно спать, — заметила королева сыну.
— Вот всегда вы так говорите…
— Потушите лампу. И спрячьтесь под одеяло, чтобы волки вас не нашли.
— Да нет, пока вы здесь, они не придут!
Нормандец завозился в кровати, укутываясь в одеяло. Королева и Ферзен по-прежнему держались за руки. Они говорили шепотом. Нормандец заснул или, скорее, притворился спящим, слушая, что они говорят о нем, об его уме, его эрудиции, слегка избыточной для его возраста, по мнению Марии-Антуанетты.
— Король полагает, что несчастье обострило его умственные способности. Это верно, он всегда рядом с нами и многое узнает… Когда он не со своим наставником-аббатом, то с королем или со мной. Он не играет в детские игры, ему не позволяют видеться с детьми его возраста. Что он вам сказал?
— Наговорил любезностей… но таким тоном, как бы выразиться… скорее светским.
— Он знает, что все держится на нем… Те, кто за нами надзирают, открыто говорят ему об этом. То, чему учит его аббат, не слишком влияет на такое положение дел. Меня лишь утешает, что он полностью здоров. Да, так что там по поводу войны?
— Она будет обязательно, это вопрос нескольких недель. Уже твердо решено начать наступление.
— Надеюсь, будет еще не слишком поздно. Потому что здесь тоже готовятся к войне и собирают войска. К счастью, с Лафайетом во главе мы наверняка проиграем… то есть наоборот, мы-то как раз победим! Видите, в каком абсурде нам приходится жить: мы стремимся к войне в надежде проиграть! Я отравлена ненавистью. Видите, я здесь, рядом с вами — и спрашиваю вас о политических новостях, вместо того чтобы сжимать вас в объятиях и целовать… Но я разучилась чувствовать что-то иное, кроме ненависти. Вы не можете себе представить, до чего я ненавижу этот народ! Кажется, заодно я возненавидела и всех мужчин… Я как мертвая, внутри у меня все высохло… Не знаю, сможет ли удачная месть вернуть меня к жизни, но не могу думать ни о чем, кроме одного: пусть французы наконец отправятся воевать! Это наш шанс, не так ли? Пусть они пойдут на войну и пусть все будут уничтожены!
— Нужно обязательно вывести вас из того состояния, в котором вы находитесь! Это можно сделать только жестокими средствами.
— Наконец-то вы это поняли.
Всю ночь они строили планы побега. На следующий день Ферзен встретился с Людовиком XVI, после чего об итогах беседы написал шведскому королю в уже упоминавшемся письме от 29 февраля 1792 года. Именно в ходе этой встречи Людовик XVI попросил его организовать издание памфлетов, разоблачающих заговор монархистов.
~ ~ ~
3 марта 1792 года Эбер объявил войну королеве.
«Папаша Дюшен страшно зол на мадам Вето, которая предложила ему пенсию, чтобы усыпить народ и обмануть его, а потом вернуть аристократию и восстановить старый режим!
— Я поклялся, что ноги моей больше не будет у месье Вето, а уж с его женой я больше ни словом не перемолвлюсь; но не всегда выходит так, как хочешь, и вот довелось мне снова их навестить. Мадам Вето сидит со своим постреленком на коленях, а ее воображала-дочка стоит рядом. Мадам Вето сделала знак мальцу, и он тут же подбежал ко мне и кричит: „Здрасьте, месье Дюшен!“
— Видите, — говорит эта притворщица, — какие у меня воспитанные дети! Я советую моему сыну ладить с народом и водить дружбу со славными людьми вроде вас. Ах, папаша Дюшен, зря вы пишете для этих нищебродов — они такие неблагодарные и даже не могут оценить по достоинству ваших талантов. А вот я бы платила вам такое вознаграждение, какого вы заслуживаете! Я знаю, что все с удовольствием читают ваши речи, и шуточные, и гневные. Так вот, папаша Дюшен, не могли бы вы повлиять на народ, чтобы он согласился снова поставить над собой короля и разрешить благородным господам вернуться?
— Да как вы посмели, мать вашу, предложить эдакое папаше Дюшену? Черта с два я соглашусь! Катитесь к едрене фене вместе со своими благородными мерзавцами! Папаша Дюшен никогда не продаст народ!»
Барнав и Ферзен остались в дураках, старые методы больше не работали, Эбер не поддавался манипуляциям, нужно было от него избавиться. Если он не был подвержен моральному разложению, то вполне мог быть подвергнут физическому: его необходимо было отправить в тюрьму в компанию к остальным «папашам Дюшенам». Определив раз и навсегда участь самого неуступчивого из них, можно было на некоторое время утихомирить парижских санкюлотов.