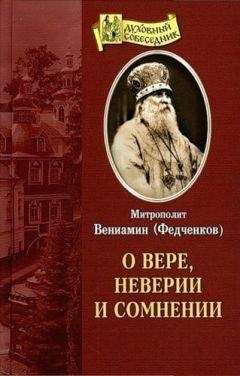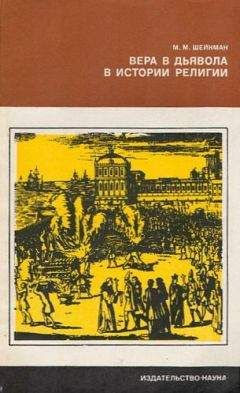Татьяна Романова - Сизые зрачки зла
Первой опомнилась Вера. Она кинулась к матери, обняла ее и прижалась щекой к светлым волосам графини.
– Все будет хорошо, – прошептала она, накрывая материнскую руку маленькой теплой ладонью, – я верю, что Боб обязательно вернется.
Стараясь сдержать слезы, графиня молчала. Как хорошо, что Вера выросла такой стойкой! Софью Алексеевну тянуло довериться ей, переложить тяжесть принятия решений на плечи дочери, а самой отдаться своему горю. Поймав себя на этом желании, она устыдилась. Да кто же, кроме матери, должен заниматься делами сына? Она собралась с мыслями и спросила:
– Вы поедете со мной в Санкт-Петербург? Я могу оставить вас на попечение кузины Алины. Попросим ее переехать к нам в дом, и вы сможете остаться в Москве…
– Нет, мы не останемся. Мы, как всегда, должны быть вместе, – тут же заявила Вера, и младшие согласно кивнули.
– Я тоже не хочу с вами расставаться, мне спокойнее, когда вы рядом, – призналась графиня, и неуверенно добавила: – Наверное, теперь нужно собираться?
– Не беспокойтесь, я все сделаю, – отозвалась Вера и объявила: – Идите отдыхать. Мы выезжаем завтра.
Она сама отобрала вещи в дорогу, проследила за их укладкой и набила провизией корзины. Ледяная зимняя ночь еще не покинула Москву, а графиня Чернышева уже разместилась вместе с дочерьми в новом дорожном экипаже, поставленном из-за зимы на полозья. В возок поменьше сели горничные. Вера укутала ноги матери меховым одеялом и, стукнув по стеклу, дала сигнал трогать. Вылетев со двора, тройки понеслись по Тверской в сторону заставы. Софья Алексеевна прикрыла глаза и ушла в свои тяжкие мысли.
«Я помогу сыну, – как заклинание мысленно повторила она, – я никогда с ним не расстанусь».
Графиня обняла уже задремавшую младшую дочь и застыла. Она осталась наедине со своим горем, силы у нее кончились, и черная река отчаяния прорвала преграду из воли и мужества, опаляя сердце, выжигая душу. Стараясь пережить эту пытку, Софья Алексеевна сжалась в комок, и постепенно боль ушла, оставив после себя полное опустошение. Когда же за окном стало светать, графиня постепенно успокоилась и незаметно для себя соскользнула в вязкую тину сна.
Сон ее оказался прекрасным. С нежной гордостью смотрела она на своего сына. В белом мундире кавалергарда шел он среди цветущих кустов сирени. Как же он был хорош, как грела сердце матери его улыбка! Потом сад вдруг кончился, и вокруг зашумел вековой лес, которому не было ни конца, ни краю, но сын шел рядом, и этого Софье Алексеевне было достаточно. Пытаясь что-то ему сказать, графиня посмотрела на своего ребенка и поразилась: исчез белоснежный мундир, его заменила широкая шинель, похоже, солдатская, и странная круглая шапка. Графиня хотела спросить, что это за одежда, но от ужаса не смогла говорить. Она уже и сама поняла, что это значит. Каторжник! По-звериному завыв от отчаяния, Софья Алексеевна проснулась. Она сидела в полутемной карете, рядом спали дочери. Графиня поняла, что беззвучно открывает рот, но голоса своего она не слышала.
«Слава тебе, Боже, это был просто пустой сон», – решила она.
Превозмогая страх, Софья Алексеевна перекрестилась. Она не хотела верить, что с ее ребенком может случиться такая беда, но зато твердо знала, что готова потерять все, что имеет, лишь бы на плечах ее сына не болталась ужасная шинель арестанта, а за его спиной не шумела бы бескрайняя сибирская тайга.
В свой дом на Английской набережной столицы Чернышевы приехали уже затемно. Измотанные дорогой дочери, наскоро поев, отправились в спальни, а Софья Алексеевна прошла в комнату сына и застыла, глядя на его вещи. Под грудью ее мелкой дрожью разрасталось нервное возбуждение, и графиня заметалась из угла в угол, стараясь успокоиться, но ничего не получалось. Скоро она поняла, что уже не сможет совладать с собой, а тем более уснуть. Впрочем, время оказалось не позднее, и она могла поехать к тетке. Вот где она найдет поддержку! Обрадовавшись возможности действовать, Софья Алексеевна велела заложить свежих лошадей и выехала.
Лошади споро бежали по пустынной набережной, потом ее экипаж свернул на Невский проспект, и дорогу осветили газовые фонари. В Москве по ночам еще ездили с факелами, а в столице стараниями покойного генерал-губернатора Милорадовича на центральных улицах свет горел всю ночь. Вспомнив беднягу-генерала, Софья Алексеевна перекрестилась. Как же жаль Милорадовича! И особенно несправедливым казалось то, что этот храбрый и благородный генерал погиб не в бою, а от выстрела в спину во время восстания во вверенной ему российской столице. Отчаяние вновь кольнуло сердце. Неужели и сын причастен к его гибели?..
«Нет, только не Боб, невозможно, чтобы он сочувствовал убийству Милорадовича. Наверное, это была трагическая случайность. Мой сын – благородный человек, и все его друзья – прекрасные молодые люди, они не могли стрелять в спину боевому генералу», – успокаивала себя графиня.
Думы изводили ее, душили душу горькой тоской, и Софья Алексеевна тихо застонала. Она порадовалась, что с ней нет дочерей, ведь сдерживать отчаяние стало невмоготу. Наконец эта пытка закончилась: карета остановилась у мрачноватого трехэтажного дома, выкрашенного в светло-зеленый цвет лет пятьдесят назад. Построенный углом, особняк Румянцевых одним фасадом выходил на набережную Мойки, а вторым – на Зимнюю канавку. Графине он всегда напоминал саму тетку Марию Григорьевну – дом так же, как его хозяйка, остался в царствовании Екатерины Великой и казался чуждым нынешнему веку.
Карета остановилась, лакей открыл перед графиней дверцу и помог ей сойти с подножки. Старый швейцар, подслеповато щурясь, уставился в лицо Софьи Алексеевны.
– Ваше сиятельство! – восторженно воскликнул он, наконец-то узнав гостью, – вот уж барыня будет рада!
Графиня поздоровалась со стариком. Вокруг засуетились слуги, а по лестнице навстречу племяннице с завидной быстротой уже спускалась сама хозяйка дома – невысокая, располневшая, но все еще красивая пожилая дама с яркими голубыми глазами в сеточке тонких морщин.
– Сонюшка, вот ведь радость! – восхитилась она.
– Какая же радость, тетя? – шепнула ей на ухо удивленная Софья Алексеевна, – Боба арестовали. Разве вы не знаете?
По растерянному лицу тетки графиня поняла, что та действительно ничего не знала. Мария Григорьевна покачнулась, и племянница поддержала ее.
– Тише, тише! Пойдемте в гостиную, там и поговорим.
Обняв тетку, графиня повела ее в соседнюю комнату, там усадила на диван, сама закрыла двери и, вернувшись, села рядом.
– Значит, и наш мальчик попал в эти жернова… Но ведь, когда случилось это ужасное несчастье, он был с тобой в Москве!
– Да, он был дома, но, как только узнал о выступлении на Сенатской площади, сразу же выехал в столицу. Его арестовали в ночь приезда. Судя по слухам, он сидит в Петропавловской крепости. Я должна добиться свидания с сыном и помочь ему всем, чем смогу.
– Но за что арестовывать человека, который ничего не совершил?
Графиня вздохнула, она уже сотню раз задавала себе тот же вопрос, и так и не знала ответа, но тетка с тревогой вглядывалась ей в глаза, и пришлось отвечать:
– Он был членом тайного общества, наверное, его арестовали за это.
– Опомнись, Софи, да ведь в Санкт-Петербурге каждый второй человек при дворе – масон! Разве это не тайное общество? Это все игра – взрослые мужчины всегда немного, но остаются детьми, вот они и играют в тайны. Разберутся – и отпустят Боба. Ну, как же может быть иначе?..
– Ах, тетя, дай бог, чтобы это так и было, – перекрестилась графиня, хотя понимала, что «просто» уже ничего не получится. – Нам нужно подумать, кто сможет мне помочь в хлопотах об освобождении. Я хочу съездить к Александру Ивановичу Чернышеву, он нам – родня, хоть и дальняя, и мой муж много помогал ему в начале карьеры. Неужели он теперь откажется помочь мне?
На лице старой дамы появилось такое скептическое выражение, что ее племянница насторожилась.
– Ох, Софи, не люблю я этого молодца, слишком уж он холодный какой-то, и глаза у него – чистые куски льда. Я всегда, когда его встречала, думала, почему ему с женами так не везет. Попомни мои слова, это – знак свыше, Бог за грехи его карает, плохой он человек.
– Мне выбирать не приходится. После смерти мужа его друзья как-то отошли от нас, может, я сама виновата – слишком ушла в горе, никого не хотела видеть, но теперь об этом жалеть поздно. Я не знаю, к кому еще обратиться. Ведь этот человек должен быть влиятельным, иначе мне придется передавать прошения через мелких чиновников, я буду ждать ответа, а они выбросят мое письмо в помойное ведро.
Румянцева призадумалась, а потом признала:
– Теперь из страха, что их тоже примут за заговорщиков, все сверх меры восхваляют Николая. Только сдается мне, что сам он пока ничего не решает, и сейчас главным человеком при дворе стала императрица-мать, она всегда имела влияние на младших детей. Нам бы до нее добраться!