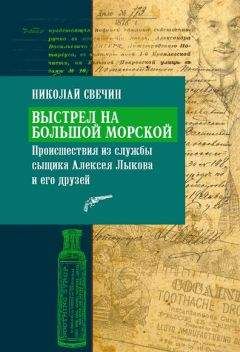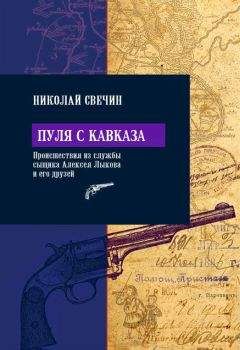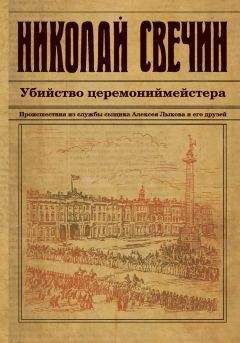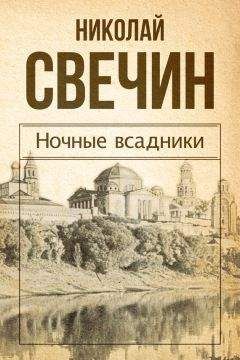Николай Свечин - Между Амуром и Невой
У Алексея отлегло было от сердца, но, как оказалось, преждевременно.
— Каким ещё там законом?! Здесь я закон, а ещё царь, и бог; как скажу, так и будет! Мне здесь всё можно, я для этого сюда и поставлен. Выполнять!!
— Никак нельзя, ваше высокоблагородие, — по-прежнему твёрдо отвечал помощник. — О прошлом месяце отставлен без прошения смотритель Ачинского этапного двора, как раз за такое превышение власти. Прикажете в карцер на трое суток? Это можно-с…
Известие о том, что за самоуправство выгоняют со службы, несколько остудило «царя и бога». Обматерив на прощанье Лыкова, он бросил «в холодную!», и ушёл, гордо скрипя сапогами.
И Алексей оказался в «индии», как «по музыке» уголовные называют карцер. Каморка два на два аршина с крохотным оконцем под самым потолком; стены покрыты слоем липкой плесени, а на полу густо набросаны нечистоты. Однако погрустить как следует сыщик не успел — уже через полчаса его вывели наружу и отправили под конвоем в канцелярию.
«Что там ещё?» — обеспокоился Алексей. — «Вдруг Кандыба залудил новый стакан и решил-таки исполнить свою угрозу?». Если так, то это конец: Суконкин тут же разуверится в его, Лыкова, полезности и выдаст «демона» уголовным.
Сыщика завели в кабинет помощника смотрителя. Тесная комната, бедная казенная мебель, одинокий гераний на подоконнике. Хозяин стоял посреди с формуляром в руках и внимательно разглядывал вошедшего.
— Шапкин Иван Иванович? Нерчинский мещанин?
— Так точно, ваше благородие.
— Что вы там давеча сказали господину майору?
«Была ни была», решил сразу же Алексей, и так же четко и со значением, как тогда Кандыбе, повторил:
— «Между Амуром и Невой».
Помощник смотрителя облегчённо выдохнул, улыбнулся по-доброму и сказал:
— Здравствуйте, Алексей Николаевич! Позвольте представиться: поручик Щастьев Платон Серафимович. Очень рад, что все удачно разъяснилось.
— Да уж, Платон Серафимович, если бы не вы, не знаю, как бы оно «разъяснилось». Ходил бы сейчас коллежский асессор с поротой задницей… Спасибо!
— Майор Кандыба бумаг не читает, но вы не могли этого знать.
— Совсем не читает?
— Совсем. Бумаги мешают ему управлять тюрьмой. Так, как хочется…
— Понятно. Если никого не высек, значит, день не задался?
— Вы даже не подозреваете, как близки к истине, Алексей Николаевич. Увы. Он у нас из кантонистов — сами понимаете… Да еще эта дипсомания.[115]
— А вы, судя по тому, что я здесь, а не в карцере, бумаги читаете.
— На мне, говоря по правде, вся практическая работа по заведыванию тюрьмой, и уже давно. Но это ладно. Что случилось, коли вы решили открыться? Видимо, что-то серьёзное?
— Серьёзней не бывает. Меня опознал вчера один из ваших арестантов, некто Пров Суконкин, и угрожает теперь выдать уголовным. Если я не устрою его писарем в канцелярию и не устраню одного враждебного ему каторжного.
— Ну, это мы сейчас решим. Что я должен сделать?
— Взять бы стервеца за ноги, да об угол головой; жаль, нельзя. Нужно очень быстро изолировать Суконкина, исключив всякую возможность его общения с прочими арестантами. Всякую! Это очень важно. И содержать в «секретной» до особого распоряжения Департамента полиции.
— Будет исполнено.
— Только, Платон Серафимович, вы понимаете, что все должно выглядеть натурально. Многие видели мой разговор с Суконкиным, кто-то мог заметить нашу с вами встречу. Если я сейчас вернусь в балаган, а парня вскорости схватят и потащат в одиночку, умные люди могут увязать эти события.
— Не извольте беспокоиться, Алексей Николаевич. Все будет именно натурально. Скажите ему сейчас, что всё решено для него положительно. Пусть ждет вызова в канцелярию для назначения на должность. Потом Суконкина тихо-мирно заберут на раскомандировку, и он исчезнет. Никто ничего не увяжет. Здесь же на сегодня четыре тысячи восемьсот сорок девять арестантов — больше, к примеру, чем жителей в Чите. Чем ещё могу помочь?
— Дайте, пожалуйста, чернила, бумагу и пятнадцать минут времени. Мне необходимо составить телеграмму в департамент и зашифровать личным шифром; отошлите ее не медля в Петербург.
Усевшись за стол Щастьева, Алексей написал следующее:
«Нахожусь в Томской пересыльной тюрьме. Опознан уголовным, который меня шантажирует. Обратился за помощью к смотрителю майору Кандыбе, назвав обусловленный пароль, после чего оказался в карцере, поскольку вечно пьяный смотритель бумаг не читает. Будучи на грани разоблачения и угрозы смерти, выручен помощником смотрителя поручиком Щастьевым, который в курсе всех дел и много лет фактически руководит тюрьмой. Быстрыми и умелыми действиями оного лица опасность устранена, исполнение Высочайшего поручения может быть продолжено. Следую дальше на восток. Прошу принять меры к наведению порядка в Томской пересылке. Лыков.»
Дал прочитать текст помощнику смотрителя — тот порозовел, но смолчал — потом зашифровал и вручил для отправки.
— Думаете, получится? — спросил, после паузы, Щастьев. — Сил больше нет терпеть… Я уже переводиться собрался, все равно, куда.
— Продержитесь еще два, много три дня. Плеве доложит графу Толстому, тот даст указание Михаилу Николаевичу,[116] после чего наверное приедет вице-губернатор и введёт вас в должность смотрителя. Не забывайте — речь идет о выполнении Высочайшего поручения! А теперь пусть меня вернут в балаган.
Глава 22
Тюремные типы
В маленьком Томске две тюрьмы. Одна — исправительная (арестанты называют ее «содержающая»): ветхое двухэтажное здание, сырое и убогое, в котором горюют семь десятков невольников. Вторая — Томская пересыльная — огромное предприятие, поражающее даже русского человека своими масштабами. Это целый город в городе. Белый трехэтажный корпус канцелярии с часовым у входа; подле него, на площади, бабы торгуют молоком и калачами. Большие решетчатые ворота ведут во внутренний двор с кордегардией. Вторые ворота доставляют вас уже на главный двор, размерами триста на четыреста восемьдесят саженей. По периметру, вдоль острожных стен, двор окантован цейхгаузами и несколькими подсобными строениями: прачечной, баней, двумя кухнями, пекарней и лазаретом. Внутри — собственно арестантские казармы: четыре длиннющих одноэтажных кирпичных корпуса, столько же бревенчатых, и шесть огромных летних балаганов из натянутого полотна. Особняком стоят два флигеля: военно-каторжное и дворянское отделения; в последнем устроена домовая церковь. Зимой полотняные балаганы убираются и тюрьма тогда вмещает две тысячи арестантов; летом же их число доходит до пяти тысяч!
Лобовский резидент в Томской пересылке Митрофан Наговицын оказался крупным степенным парнем, уверенным и развитым. Он сразу обмолвился, что почти закончил курс в Демидовском лицее! Наговицын сумел устроиться чертежником в инженерном столе канцелярии и теперь чувствовал себя в «колымажне», как рыба в воде. Он знал здесь всех, и все знали его. Только однажды он торопливо сдернул картуз перед каким-то офицером. С прочими, и военными, и партикулярными, Митрофан вежливо здоровался не снимая убора, и так же вежливо приветствовал встречных арестантов. Наговицын вызвался быть чичероном для гостей из Питера, и утром повел их изучать пересылку. Говорил он при этом много, но умно:
— Тут у нас такие типы, что прямо хоть сейчас в роман. Да вот, к примеру, этот… персонаж, ети его!
И Наговицын указал на рыжего мужчину с серьезным лицом тугодума, осторожно, как кот, вышагивающего посреди двора. По бокам «персонажа» сопровождали два крепких фартовика.
— Это Никифоров. Людоед.
— Людоед? — опешили столичные ревизоры.
— Да, самый настоящий. Когда убегал в тайгу, сманивал с собой «дядю Сарая», крестьянина попроще, будто бы в товарищи. А там его убивал и мясом покойника питался.
— Скольких он так?
— Доподлинно известно про четверых. Может, и больше… Каторжная тюрьма приговорила его к смерти. Никифоров смог вырваться в пересыльную и здесь застрял. Приговор дошел сюда. Тогда он нанял у «иванов» охрану — видите, двое «деловых» с ним ходят — и платит им по рублю в день. Тюрьма ждет, когда у сволочи кончатся деньги (давать ему в долг запретили). Говорят, осталось уже менее червонца. А Никифоров тоже ждет — перевода. Братья из Барнаула ему выслали пятьдесят рублей, так он каждый день ходит в канцелярию, интересуется, пришли деньги или не пришли. Вот вопрос: успеет ли?
Недашевский, сурово сдвинув брови, смотрел на красное, отечное лицо людоеда. А потом вдруг сделал то, чего Алексей от него не ожидал. Осмотрелся — далеко вокруг не было никого из надзирателей — и быстрым шагом подошел к фартовым. Те сразу напряглись, но Яков вынул из кармана два серебряных рубля и вручил каждому по монете.