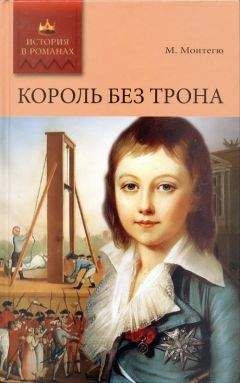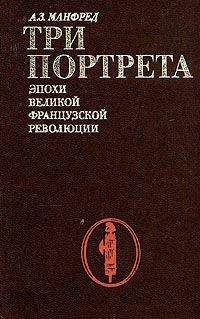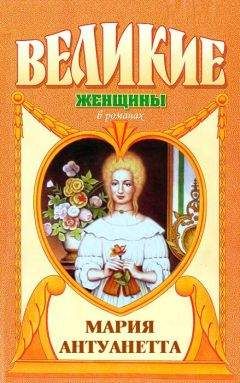Кристоф Доннер - Король без завтрашнего дня
Поиски денег делали его все более азартным и плодовитым. Его стол ломился под грузом статей, которые не удавалось нигде опубликовать. Тогда он стал читать их на уличных собраниях. Слушатели мало что понимали, но толпы обычно не вникают в смысл — они больше обращают внимание на голос и манеры того, кто говорит. Пока Марат бубнил свои умные теории перед депутатами, столь же искушенными, как он сам, Эбер зубоскалил с рабочими и торговками рыбой. Именно в клубах и на уличных сборищах Эбер научился писать как Эбер.
В марте 1790 года он начал издавать за свой счет газету «Мне плевать». Она содержала в основном сумбурные размышления о текущих событиях и после трех номеров перестала выходить.
Несмотря на этот уже неизвестно какой по счету провал, Эбер снова отыскал деньги — на издание первого номера «Папаши Дюшена». Анри не был уверен, что держит в руках тот самый экземпляр, который принадлежал Эберу. Но это было неважно — хорошая идея ничего не стоит без того, кто поможет ей восторжествовать.
Эберу пришлось выдержать конкуренцию с полудюжиной авторов, оспаривающих единоличное право на использование имени папаши Дюшена. Он уничтожил соперников одного за другим — кого угрозами, кого насмешкой, кого измором. Измором во всех смыслах этого слова: когда речь идет о деньгах, упорство возрастает многократно.
Образ действий, который избрал Эбер и благодаря которому он в течение нескольких лет стал журналистом номер один во французской прессе, принес потрясающие плоды. Газета, как ребенок, росла с каждым номером, это была уже почти книга; но если любую книгу в конце концов ставят на полку рядом с другими, то газета приносит своему редактору невероятное ощущение всемогущества, которое, впрочем, вполне соответствует его реальной власти. Патроны прессы, которые, по сути, не кто иные как маленькие Эберы, дети папаши Дюшена, — это люди, способные упечь в тюрьму кого угодно и кого угодно из нее освободить. Они могут и спасать людей, и доводить их до самоубийства — и все это лишь ради очередного подтверждения собственной власти: «потому, что мне доставляет удовольствие без всякой причины заниматься тем, что само по себе не хорошо и не плохо».
В сентябре 1790 года Эбер наконец нашел издателя, месье Трамбле. Эберу удалось убедить своего мецената, что «Папаша Дюшен» должен быть не газетой и не сборником памфлетов, а тем и другим сразу: памфлетической газетой. Регулярной скандальной хроникой, которую читатель нетерпеливо ждет каждую неделю. Папаша Дюшен — это Рокамболь Революции. Разоблачитель заговорщиков и коррупционеров, он дважды в неделю будоражит народ, не давая ему забыть об опасностях, постоянно угрожающих нации. Ведь прессу изобрели не для того, чтобы она писала о важных событиях, а для того, чтобы именно она определяла, какие события по-настоящему важны, и каждый день давала читателям новые темы для обсуждения. Эбер понимал, что любой скандальный факт можно сделать событием — если он будет преподнесен соответствующим образом. А если о нем сообщает скандальный персонаж, то полдела, считай, уже сделано.
Устами папаши Дюшена Эбер не просто комментировал ситуацию, он безжалостно ее громил. Папаша Дюшен, торговец печными трубами, не был «другом народа» — это был сам народ. Он не рассказывал о всяких там «революциях во Франции и Брабанте», но сам по себе, со своим зубоскальством и со своими постоянными ругательствами, был голосом и душой Революции. И он собирался всем показать, как вывести на верный путь и довести до победного конца «эту вашу гребаную революцию».
Первый номер вышел с подзаголовком «Папаша Дюшен в Сен-Клу, или Встреча с королем и королевой».
«— Эвона как! — королева говорит. — Стало быть, это тот самый папаша Дюшен, про которого только и разговору?
— Он самый и есть, мадам, — король ей в ответ.
— Эй ты, чего молчишь? Язык проглотил?
А я рта не разеваю, боюсь, сорвется „черт“, или „мать вашу“, или еще чего не для ихних ушей. Однако ж весь целиком сдержаться не смог и выдал из-под низу хороший залп, от чего королева захохотала, а король призадумался.
Это, если кто не понял, я воздух испортил хорошенько. А королю, может, какая угроза в этом померещилась».
Но самое интересное в этом памфлете то, как папаша Дюшен определяет будущую участь Людовика XVII.
«Я сказал, что хотел бы повидать мальчонку-прынца, и меня к нему отвели. Хороший у них малец, е…ть мои башмаки! И меня по-хорошему встретил. Показал мне столько всяких забав, что обхохочешься! Когда-нибудь он вырастет, этот славный маленький засранец; и отец его мне заранее пообещал, что воспитает его по всей строгости. Будет знать, мать его, как заботиться о стране, а не пить из нее соки и притеснять народ!»
~ ~ ~
6 мая 1795 года Людовик XVII, запертый в своей камере уже целый год, одолеваемый скукой, стыдом, голодом и паразитами, заболел. Ему недавно исполнилось десять лет — в этом возрасте его старший брат умер в Медоне. Нормандцу не было нужды лишний раз напоминать себе об этом, чтобы понять, что его ждет.
Доктор Дезо из приюта «Человечность», в прошлом богадельни «Божье пристанище», пришел осмотреть дофина. После визита Робеспьера в прошлом году мальчик больше ни с кем не разговаривал. Голубка, которая была его единственным развлечением, умерла. Он даже не заплакал, когда у него забрали птичий трупик, который он перед этим три дня прижимал к груди. И вот теперь Людовик XVII лежал на убогом деревянном топчане и дрожал.
Врач прослушал его и задал несколько обычных вопросов: с каких пор он себя плохо чувствует? как это началось?
— Не давайте мне конфет, — в полубреду пробормотал ребенок, — я их выброшу. И не говорите мне комплименты, я не буду отвечать… Я ничего у вас не возьму, даже игрушек, и я не хочу, чтобы вы меня учили своим песням, — я заткну уши… Я не хочу, чтобы вы со мной любезничали. Вы только притворяетесь, а на самом деле смеетесь надо мной. Я сказал, что не хочу… Моя мама, королева, меня толкнула. Толкнула меня в спину и сказала: «Идите, месье». Она не хотела, чтобы я сопротивлялся. А они гладили меня по голове, им нравились мои кудри, они сказали, что хотят остричь их на память.
Его голос, прерывистый и хриплый, свидетельствовал о начавшейся лихорадке. Он ненадолго замолчал, чтобы перевести дыхание, потом взял доктора за руку.
— Это вы, аббат? Вы пришли?
— Я — врач…
— Я был один, мне было грустно без вас…
— Я не аббат. Посмотрите на меня.
Мальчик поднял гноящиеся, лихорадочно блестевшие глаза. Казалось, он ничего не видит. Потом он улыбнулся — от радости, что снова встретился с аббатом. Его голос стал громче, слова — отчетливее.
— Однажды, когда мы были на прогулке, мы увидели делегацию депутатов. Их предводитель обратился к маме, он даже поклонился… я как будто и сейчас это вижу… Он засмеялся… они любили смеяться над нами или пугать меня. Тогда я задрожал и спрятался. Они попросили маму взять меня на руки. Но я не хотел, я убежал, далеко… А мадам де Турзель меня догнала и отвела к маме. Она сказала, что я должен слушаться этих господ… Иногда у нее бывает такой злой голос… я чуть не заплакал. Мама взяла меня на руки, и они закричали: «Да здравствует королева! Да здравствует король! Да здравствует дофин!» А моя сестра ревновала — вы же помните, аббат, она всегда была ревнивой. Завидовала, что у меня свита пышнее, чем у нее. Но я ее прощаю, я давно ее простил… И она тоже меня простит… Революционеры хлопали в ладоши, дарили мне подарки. А сестре, Терезе, никогда не хлопали, ни разу в жизни, даже когда она родилась, потому что она девочка… Парижане мной восхищались, они хотели, чтобы я стал королем вместо папы. Папа больше не ходил на прогулки, потому что, как только он появлялся, его начинали обзывать рогоносцем и свистели ему вслед, а мне хлопали. Давали мне все, что я хотел. А когда в газетах про меня писали, мне давали их читать. Я ведь умею читать — спасибо, что научили меня, аббат.
~ ~ ~
В Тюильри у дофина был свой садик на берегу реки. Каждое утро мальчик шел туда собирать цветы для матери. Это были красные розы. Вечером их втыкали в землю, а утром он их собирал.
~ ~ ~
Эбер познакомился с Франсуазой Гупиль в ходе патриотического рейда в монастырь Непорочного Зачатия, занимавший уродливое здание недалеко от сада Тюильри.
Он вошел туда в сопровождении десятка муниципальных гвардейцев — расхристанных, грязных, зато с трехцветными кокардами, вручную изготовленными дома. Сам Эбер был хорошо одет, не имел при себе оружия и держался особняком. Настоящий политический комиссар.
Благодаря успеху своей газеты Эбер стал одной из заметных фигур Революции. Между написанием статей и веселыми вечеринками в кафе «Корраза», где вино лилось рекой, он порой разыгрывал примерного гражданина. Его избрали президентом одной из секций Трибунала, под ироническим названием «Благая весть», отвечающей за борьбу с духовенством. Шла повальная дехристианизация — уже вовсю грабили церкви, расплавляли золотые дароносицы, теперь нужно было освободить монахинь из монастырей. Эбер решил отправиться с остальными, чтобы собрать материал для очередного памфлета: «Папаша Дюшен навещает монашек в монастыре Непорочного Зачатия».