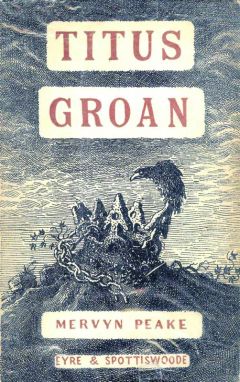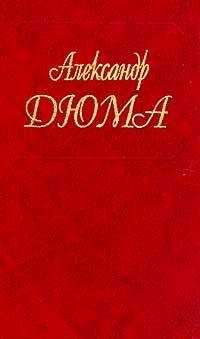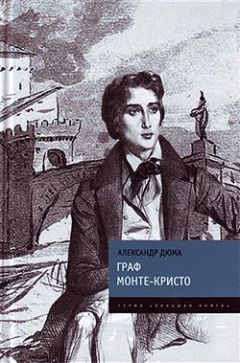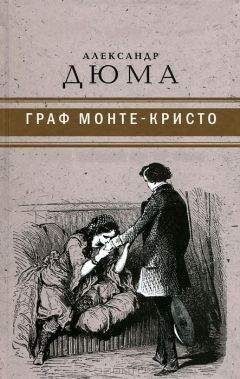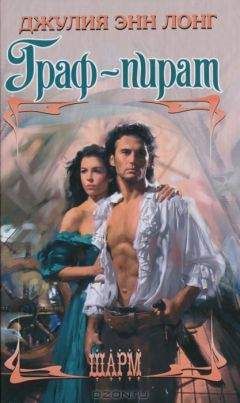Александр Дюма - Катрин Блюм
Но достаточно было Шолле приподняться, как Матьё опять спрятался, подобно черепахе, втягивающей свою голову под панцирь.
Молодой человек собрал свой золотой урожай; последнюю монету в двадцать франков он не стал класть в кошелек, а вручил Бабетте.
— Спасибо, малышка! — сказал он. — Это тебе.
— Целых двадцать франков! — радостно воскликнула девушка. — Но вы ошибаетесь, сударь, это, наверно, не мне.
— Нет, тебе. Это положит начало твоему приданому.
Из деревни донесся бой башенных часов.
— Сколько же это времени? — спросил Парижанин.
— Девять часов, — отвечала Бабетта.
— О! Так я могу и опоздать.
Похлопав себя по груди, чтобы удостовериться, что деньги на месте — в боковом кармане сюртука (карман жилета был для кошелька слишком узок), — Шолле взбежал на пригорок, на мгновение прислонился к дубу, стараясь получше разглядеть дорогу, и стал быстро спускаться в маленькую долину, где поблескивала вода источника.
— Ах! — прошептала девушка, разглядывая золотую монету перед свечой. — Желаю ему удачи! Вот что значит быть богатым и щедрым!
Она вернулась в дом и, поскольку новых посетителей больше не предвиделось, закрыла ставни, а затем и дверь. Послышалось, как заскрипел сначала замок, а потом двойной засов.
Бернар остался один в темноте, вернее, он полагал, что остался один, ибо больше не думал о Матьё.
Прислонившись плечом к стволу бука, он постоял так некоторое время, хмурый и печальный, пытаясь рукой, прижатой к сердцу, унять сердцебиение и судорожно сжимая ствол ружья в другой руке.
Матьё не спускал с него глаз, следя сквозь просвет, проделанный им в листве живой изгороди.
Минуты две, раздумывая, Бернар неподвижно стоял на месте: его можно было принять за статую.
Наконец, прийдя в себя, он огляделся вокруг и шепотом позвал:
— Матьё, Матьё!
Бродяга воздержался от ответа; определив по изменившемуся голосу Бернара, что тот сильно возбужден, он удвоил внимание.
— А, он ушел, — продолжал вслух рассуждать Бернар. — Видимо, испугался того, что может здесь сейчас произойти. Если Катрин придет на это свидание с Парижанином, страхи Матьё не напрасны…
И, выйдя из тени бука, Бернар сделал несколько шагов вслед ушедшему сопернику.
Затем, снова приостановившись, он стал размышлять:
— В конце концов разве только именно в мою Катрин мог влюбиться этот молодой человек? Кто мне докажет, что Матьё не ошибся? Может, Парижанин назначил свидание какой-нибудь девушке из Виллер-Эллона, из Корси или Лонпона? Впрочем, мы сами все это скоро увидим. Для того я и здесь…
Но, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, он подбодрил себя:
— Ну, Бернар, смелее! Уж лучше все узнать, чем так мучиться сомнениями. О Катрин, — произнес он, добравшись до дуба, — если ты так лгала, если ты обманула меня, никому я больше никогда не поверю. Никому на свете, никому! Боже мой, ведь я любил ее так глубоко, так искренне… жизнь за нее готов был отдать, если бы она потребовала!
Он оглянулся вокруг с невыразимым выражением угрозы на лице.
— К счастью, — добавил он, — никого нет, стемнело, все разошлись. И если что-то здесь произойдет, это останется только между мной и темной ночью.
Он двинулся к подножию дуба неслышными шагами волка, подбирающегося к овчарне, и по его выступающим корням достиг ствола.
Здесь он перевел дух.
Парижанин пока пребывал в одиночестве. Подобно охотнику, подстерегающему дичь с ружьем на изготовку, Бернар следил за каждым движением своего соперника.
«А если я, — произнес он про себя, по-прежнему вглядываясь в полумрак (та, которую он ожидал, должна была появиться, очевидно, со стороны дороги на Суасон), — пойду ей навстречу и пристыжу ее? Нет, она солжет, так я ничего не узнаю».
Вдруг Бернар обернулся в противоположную сторону.
— Э, там какой-то шум, — промолвил молодой человек. — То беспокоится лошадь этого человека, она бьет копытом. Впрочем, — равнодушно добавил он, — что мне до шума в той стороне? Вот сюда нужно мне смотреть, тут прислушиваться… Боже мой! Вот чья-то тень среди деревьев… Нет, показалось…
Бернар протер глаза, затуманившиеся от волнения.
— Да нет же, там кто-то есть, — продолжал он глухим голосом, казалось исходившим из самой глубины его груди. — Это женщина, она ступает так нерешительно… Теперь она остановилась… Вот пошла опять!.. Сейчас она выйдет на поляну, и я увижу ее яснее…
Наступила небольшая пауза, за которой послышался тихий сдавленный стон.
— О, это Катрин! — прошептал Бернар. — Он ее увидел, он встает; но ему не успеть до нее дойти.
И он опустился на одно колено со словами:
— Катрин! Катрин! Пусть кровь, что сейчас прольется, падет на твою голову!
Потом он медленно поднял ружье и приложил его к плечу.
Трижды щека молодого человека опускалась к прикладу, трижды его пальцы касались курка, но всякий раз он не мог решиться выстрелить.
Наконец, обливаясь потом, с кровавой пеленой перед глазами, он, задыхаясь, пробормотал:
— Нет, нет! Я не убийца! Я Бернар Ватрен. Я честный человек. Боже, Боже мой, дай мне силы, помоги мне!
И, отбросив ружье подальше, он как безумный бросился в лес, сам не зная куда.
На какое-то мгновение все стихло, и демон, внушивший Матьё его замысел, смог бы увидеть, как бродяга, сдерживая дыхание, высунул голову из своего укрытия под изгородью, приблизился к самому дубу, посмотрел в сторону источника и прошептал, схватив отброшенное Бернаром ружье:
— Что ж, тем хуже! Не надо было показывать столько золота. Вора делает случай!
Он прицелился в молодого парижанина.
Вспышка осветила ночь, раздался выстрел, и Луи Шолле, вскрикнув, упал на землю.
В ответ раздался другой крик — возглас Катрин: она остановилась в растерянности, обнаружив на месте свидания Парижанина вместо своего жениха. В ужасе она бросилась прочь, увидев, как упал соперник Бернара.
XVI
У ПАПАШИ ВАТРЕНА
В то время пока у Принцева источника разыгрывалась эта ночная драма, видимая одному Господу Богу, обед в семье Ватренов, который должен был поразить мэра кулинарными талантами хозяйки, заканчивался. Его омрачало только отсутствие Бернара.
Часы с кукушкой пробили половину девятого. Аббат Грегуар, уже два или три раза порывавшийся встать и уйти, казалось, окончательно решил подняться из-за стола.
Но не в правилах папаши Ватрена было так просто отпускать своих гостей.
— Нет, нет, господин аббат, — сказал он, — мы простимся только после того, как вы еще разок выпьете за чье-нибудь здоровье.
— Но где же все-таки, — обеспокоенно спросила мать, чьи влажные от набегавших слез глаза ни на минуту не отрывались от пустого стула Бернара, — где же Катрин и Франсуа? Куда они подевались?
Она не осмеливалась заговорить о Бернаре, хотя имела в виду только его.
— Действительно, где же они? — произнес Ватрен. — Ведь они были здесь совсем недавно.
— Да, но они вышли, и вышли порознь. Говорят, что нельзя пить в отсутствие тех, кто не дождался конца трапезы, — это приносит несчастье.
— Ну, Катрин должна быть где-то неподалеку. Надо ее позвать, жена!
Мамаша Ватрен покачала головой:
— Я уже звала ее, но она не откликается.
— Она уже минут десять как ушла, — подал голос аббат.
— А ты заходила в ее комнату? — обратился к жене Ватрен.
— Да. И ее там нет.
— А Франсуа?
— Ну, что касается Франсуа, — заметил мэр, — мы знаем, где его найти. Он вышел, чтобы помочь запрягать коляску.
— Господин Гийом, — сказал аббат, — мы попросим Бога простить нас, если произнесем тост в отсутствие двух гостей, но уже поздно, и я должен удалиться.
— Жена, — сказал Ватрен, — налей господину мэру вина, и все мы выпьем, а тост скажет наш дорогой аббат.
Священник поднял свой стакан, наполненный на треть, и заговорил тем добрым и мягким голосом, каким он обращался к Богу и беднякам:
— За мир в этой семье, за союз между отцом и матерью, за союз между мужем и женой, единственный союз, способный сделать детей счастливыми!
— Браво, аббат! — воскликнул мэр.
— Спасибо! — сказал папаша Гийом. — И пусть то сердце, которое вы желали растрогать, не останется глухим к вашему призыву!
И взгляд, брошенный на Марианну, ясно показал, что это пожелание относилось к ней.
— Ну, а теперь, мой дорогой Гийом, — сказал аббат, — надеюсь, вы не станете возражать, если я поищу свой плащ, трость и шляпу и попрошу господина мэра подвезти меня до города: уже почти девять часов.
— Да, поищите ваши вещи, господин аббат, — откликнулся мэр, — а я попрощаюсь с папашей Ватреном.