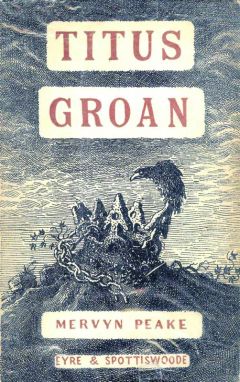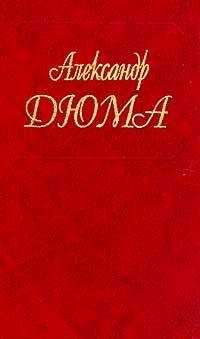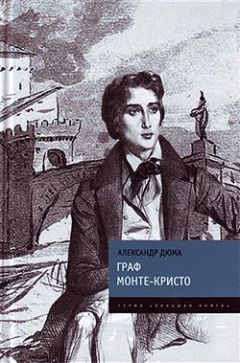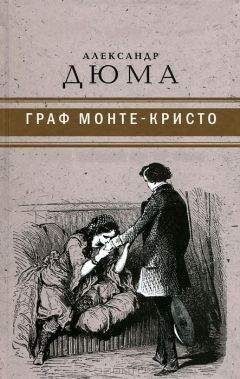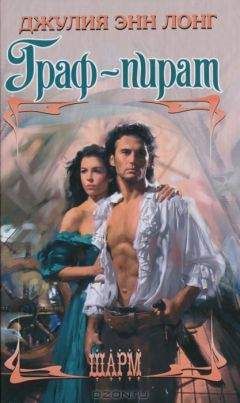Александр Дюма - Катрин Блюм
— Но что же у вас стряслось, дорогой господин Бернар? — упорствовала она.
— Ничего. Подайте только мне перо, чернила и бумагу!
— Перо, чернила и бумагу?
— Да, и поскорее.
Мамаша Теллье отправилась выполнять его просьбу.
— Перо, чернила и бумагу, — повторил совершенно опьяневший Моликар, приканчивая третью бутылку Молодого и Бобино. — Но простите, господин нотариус, разве ходят в кабачок, чтобы заказать перья, чернила и бумагу? Нет! В кабачок приходят, чтобы заказать вина.
И, словно подавая пример, он потребовал:
— Эй, вина! Мамаша Теллье, еще вина!
Хозяйка поручила Бабетте обслужить Моликара, а сама, подойдя к Бернару, выложила перед ним на стол все три необходимых ему предмета.
Бернар поднял на нее глаза и заметил, что она одета в черное.
— Почему вы в трауре? — спросил он.
Женщина побледнела в свою очередь и произнесла прерывающимся голосом:
— О мой Бог! Разве вы не помните, какое великое горе на меня обрушилось?
— Я сейчас ничего не помню, — сказал Бернар, — так почему же вы в трауре?
— Вы же знаете, дорогой господин Бернар, ведь вы же присутствовали на похоронах, что я ношу траур по моему бедному сыну Антуану, скончавшемуся месяц назад!
— Ах, бедная женщина!
— У меня никого не было, кроме него, господин Бернар, он был моим единственным сыном, и, тем не менее, Господь взял его у меня. О, как мне его не хватает! В течение двадцати лет мать была неразлучна с сыном, и вдруг его больше нет!.. Что делать? Плакать! И я плачу, что же вы хотите? Что потеряно, то потеряно!
И несчастная женщина разрыдалась.
Именно эту минуту выбрал Моликар, чтобы затянуть песню; то была его излюбленная песня, своеобразный показатель того, сколько жидкости может вместить человек.
Было известно, что, когда наступала последняя стадия его опьянения, он начинал петь:
Если у меня в саду
Рос бы виноград…
Эта песня, которая оскорбляла горе мамаши Теллье, — горе, столь тронувшее Бернара, несмотря на напускное его равнодушие, — заставила парня встрепенуться, словно его сердце уязвило новое и неожиданное страдание.
— Замолчи! — крикнул он.
Но Моликар, не обратив на запрет Бернара никакого внимания, запел снова:
Если у меня в саду…
— Замолчи, тебе говорят! — крикнул молодой человек, сделав угрожающий жест.
— А почему это я должен молчать? — спросил Моликар.
— Ты разве не слышал, что сказала эта женщина? Не видишь, что перед тобой мать, оплакивающая потерю сына?
— Это верно, — согласился Моликар, — я буду петь совсем тихо.
И он продолжал вполголоса:
Если у меня в саду…
— Ни тихо, ни громко! — закричал Бернар. — Замолчи или уходи!
— О! — ответил Моликар. — Хорошо, я уйду… Я люблю кабачки, где смеются, а не такие, где плачут. Мамаша Теллье, мамаша Теллье! — позвал он, ударив кулаком по столу. — Получите плату.
— Ладно, — сказал Бернар, — я сам заплачу, только оставь нас.
— Прекрасно! — восхитился Моликар. — Это меня радует.
И он ушел, хватаясь за деревья и распевая все громче по мере удаления от кабачка:
Если у меня в саду
Рос бы виноград…
Бернар с глубоким возмущением поглядел ему вслед. Затем он повернулся к продолжавшей плакать хозяйке.
— Да, вы правы, мамаша Теллье, что потеряно, то потеряно, — сказал он. — Знаете, мамаша Теллье, я хотел бы поменяться местами с вашим сыном: чтобы он был жив, а я — нет.
— О! Храни вас Господь! — воскликнула добрая женщина. — Вы, господин Бернар?!
— Да, я, клянусь честью!
— У вас такие хорошие родители! Ах, если бы вы только знали, какое горе для матери потерять своего ребенка, то не стали бы выражать такое желание!
Все это время Бернар пытался что-то писать, но бесполезно: рука его дрожала и он не смог написать ни одной буквы.
— Нет, я не могу, не могу! — воскликнул он, ломая перо.
— И в самом деле, — заметила женщина, — вы дрожите как в лихорадке.
— Знаете что, — продолжал Бернар, — окажите мне одну услугу, мамаша Теллье!
— Охотно, господин Бернар! — воскликнула хозяйка. — Какую?
— Отсюда до Нового дома, что на дороге в Суасон, рукой подать, не так ли?
— Да Господи, за четверть часа можно дойти, если идти быстро.
— Тогда окажите мне дружескую услугу… простите, что я затрудняю вас…
— Говорите, говорите!
— Окажите мне услугу: сходите туда и попросите Катрин…
— Так она вернулась?
— Да, сегодня утром… и скажите, что я вскоре ей напишу.
— Сказать, что вы вскоре ей напишете?
— Может быть, даже завтра, как только руки перестанут дрожать…
— Вы уезжаете?
— Говорят, мы собираемся воевать с алжирцами.
— А вам-то что до этой войны? Ведь вы уже прошли рекрутский набор и вытянули счастливый номер?
— Так вы сходите туда, куда я вас прошу, не так ли, мамаша Теллье?
— Прямо сейчас, дорогой господин Бернар; но…
— Что «но»?
— А вашим родителям?
— Что моим родителям?
— Им что должна я сказать?
— Им?
— Да.
— Ничего.
— Как ничего?
— Вот так, ничего, кроме того, что я заходил к вам, что они больше не увидят меня и что я говорю им: «Прощайте!»
— «Прощайте»? — повторила мамаша Теллье.
— Скажите им еще, чтобы они не отпускали от себя Катрин, что я буду признателен им за доброту к ней… и вот еще что — если случится так, что я умру, как ваш бедный Антуан, я прошу их сделать Катрин своей наследницей…
Измученный своим лихорадочным состоянием, молодой человек бессильно опустил голову на руки со вздохом, похожим на рыдание.
Мамаша Теллье смотрела на него с глубокой жалостью.
— Хорошо, господин Бернар, договорились! Сейчас уже вечер, народу у меня поубавилось, Бабетта справится одна, а я сбегаю в Новый дом.
И, отойдя от Бернара, она прошептала:
— Думаю, хоть этим сумею помочь бедняге!
Вдалеке еще слышался пьяный голос Моликара, распевавшего:
Если у меня в саду
Рос бы виноград…
Бернар оставался еще несколько минут в прежней позе, погруженный в глубокую печаль и горестные раздумья. Плечи его время от времени судорожно вздрагивали. Потом он встряхнул головой и вслух сказал сам себе:
— Хватит! Возьми себя в руки! Еще стакан вина и пора в путь.
— О! Конечно, мне все равно, — раздался позади него голос, от которого он вздрогнул, — но я бы так просто не ушел!
Бернар обернулся, хотя, строго говоря, мог бы и не делать этого — он сразу узнал голос.
— Это ты, Матьё? — спросил он.
— Да, это я, — ответил тот.
— Что ты сказал?
— Вы не слышали? Видно, вы стали туги на ухо!
— Я слышал, но не понял.
— Хорошо, я повторю.
— Повтори.
— Я говорю, что на вашем месте я не ушел бы вот так просто.
— Ты не ушел бы?
— Нет, пока я не… хватит, я-то понимаю, что говорю…
— Пока не… чего? Говори!
— Так вот, не ушел бы, не отомстив кому-то из них. Вот я и сказал главное.
— Что? Что? Кому-то из них?
— Да, одному или другой, ему или ей.
— Что ж, по-твоему, я должен мстить отцу и матери? — пожал плечами Бернар.
— Да нет же! При чем здесь отец с матерью? Не о них речь.
— Но о ком же?
— Ха! Речь идет о Парижанине и мадемуазель Катрин.
— О Катрин и господине Шолле? — воскликнул Бернар, вскочив, словно от укуса гадюки.
— Да.
— Матьё! Матьё!
— Вот мне урок — не надо было ничего говорить вам.
— Почему?
— Да потому, что опять все это на меня же и обрушится. Я же буду во всем виноват.
— Нет, нет, Матьё. Клянусь тебе! Говори!
— Так вы еще не догадываетесь? — спросил Матьё.
— О чем я должен догадываться? Повторяю тебе, говори!
— Ей-Богу, — продолжал бродяга, — не стоит иметь и ум, и образование, если остаешься таким глухим и слепым.
— Матьё, — воскликнул Бернар, — ты что-то видел и слышал!
— Сова хорошо видит ночью, — сказал Матьё. — У нее открыты глаза, когда у других закрыты; она не спит, когда другие спят.
— Погоди, — произнес Бернар, пытаясь смягчить свой голос, — что ты видел и слышал? Не тяни, рассказывай, Матьё!
— Ну что ж, — ответил тот, — поскольку возникло препятствие вашему браку, — а ведь есть препятствие, не так ли?
— Да, есть, и дальше что?
— Известно ли вам, отчего оно возникло?
Пот градом катился по лицу Бернара.
— Не от чего, а от кого — от моего отца.
— От вашего отца? Да вовсе нет. Ведь он хочет вам счастья. Он, бедняга, вас любит!